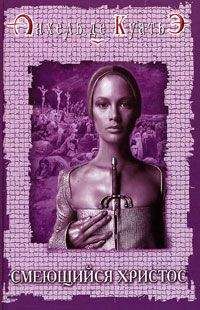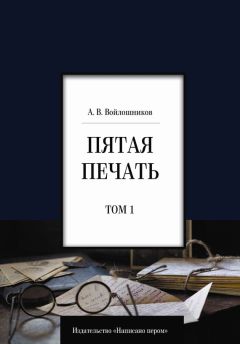Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 176
А как выглядит ситуация глазами обитателей мирской вселенной? И тут-то и выходит конфуз, разрушающий всю стройность конструкции, которую мы только что возвели, пытаясь не сойти с ума от вызовов «Пятой печати»!
Дюрица дает пощечины «Иисусу», потому что у него есть Суперпрагма — Высшие Мотивы, способные дать оправдание любым нравственным падениям. Суперпрагама — это мотивация для придания сомнительному в нравственном отношении поступку конечной целесообразности. Лучший пример суперпрагмы, который сейчас мне приходит в голову, — это «спасение отряда от верной гибели», которым руководствуется командир Левинсон («Разгром» Фадеева), отнимающий у корейца последнюю свинью и, тем самым, обрекая его семью на неминуемую голодную смерть!
Суперпрагма — это самое ценное, что есть в мире мирских благ. Выше суперпрагмы нет уже ничего.
Проблема, однако, в том, что даже суперпрагма постоянно дает сбои, причем не только в альтернативном мире духовного совершенствования, но и в самом мире мирских благ. Трактирщик Бела на протяжении всего сюжета многократно демонстрировал свою предельную материалистичность, практичность и приземленность. То же — книготорговец Кираи и даже столяр Ковач. Однако все они в момент истины оказались не способными поставить суперпрагму над какими-то иррациональными, нематериальными и — главное! — совершенно неосязаемыми в обыденном мире «духовными принципами». Это сокрушительное поражение суперпрагмы целиком и полностью вместилось в простую фразу, которую Кираи успел вымолвить перед тем, как его прибили прикладом: «Это нельзя, господин Дюрица, дайте мне руку! Это никак нельзя, поверьте! Нельзя же, господин Дюрица!»
Почему же нельзя, когда у Дюрица есть замечательная суперпрагма — спасение детишек-сирот?! А вот так вот просто: «Никак нельзя, поверьте!». Нельзя, потому что есть высший Нравственный Императив, который испепеляет любую суперпрагму. Как испепеляет? Очень просто: стоит нарушить этот Нравственный Императив, стоит поддаться уговорам суперпрагмы, как мы перестаем жить. ДО ТОГО — была жизнь, ПОСЛЕ ТОГО — будет только пустое существование. Существование без души. Голем.
Я искренне горжусь, что на сочинении по литературе в 10 классе я написал, что после того, как Левинсон отобрал свинью у корейца, жизнь Левинсона, равно как и всей его вооруженной банды, закончилась, а началось бессмысленное существование. Доживание жизни по инерции, так сказать. До отмерянного природой физического предела. Души уже нет, а есть только живой труп. Именно, что Голем.
Интересно, что «Цитадель» Сент-Экзюпери, книга, кою полагаю вершиной человеческой мысли в ХХ веке, чуть ли не на половину посвящена этой же самой теме: безоговорочному приоритету Нравственного Императива над суперпрагмой! Меня лишь удивляет, как кинокритики и основная зрительская аудитория уже которое десятилетие умудряются не замечать очевидного: «Пятая печать» однозначно осуждает поступок Дюрицы! И нет там и быть не может никаких альтернативных прочтений. Да, два разных мира, да, якобы не пересекаются. Но на самом деле, пересекаются на каждом шагу. Люди выбирают Нравственный Императив и продолжают после своего выбора жить. Люди выбирают суперпрагму, и вмиг умирают, продолжая жизнь зомби. Всё так просто.
P.S. На следующей неделе меняется расписание моих колонок: по понедельникам, средам, четвергам и пятницам будет выходить Битый Пиксель с медитациями на тему IT-бизнеса, по вторникам — традиционная Голубятня с культур-повидлом и софтожелезом, а вот кинорецензии переселяются на субботу.
К оглавлению
Почему хайтек не идет на биржу?
Сергей Голубицкий
Опубликовано 06 июня 2013
Сегодня хотелось бы представить читателям в первом приближении тему, которая мне представляется ключевой для всего развития мировой экономики. Ни больше, ни меньше. Углубленный анализ причин, а также проекцию проблемы на будущее я представлю в обширной публикации, подготовленной для июньского номера бумажного «Бизнес-журнала», а сейчас постараюсь лишь обозначить проблему, дать ее контурное описание, а также выскажу предположения о перспективах развития тревожного вектора.
Скажите, давно ли вы слышали о выходе на биржу даже не профильных, узко специализированных компьютерных компаний и доткомов, а вообще — представителей всего высокотехнологичного бизнеса в целом? Вопрос риторический: давно. А те, что выходили, демонстрируют такую печальную картину, что лучше бы они этого не делали.
Судите сами. Это Facebook:
Это Zynga:
Это Groupon:
Для географического разнообразия — вот наш Yandex:
Чтобы оценить все убожество результатов, продемонстрированных лучшими из лучших хайтек IPO, сравните их с показателями рынка в целом (индекс S&P 500) за тот же период:
Может быть, проблема в том, что застой переживают одни лишь высокие технологии, в то время как остальные отрасли рынка купаются в массовом оптимизме и с надеждой смотрят в будущее? Как бы не так! Вот вам высокие технологии (индекс Nasdaq Composite):
Как видите, тенденция налицо: растет все, в том числе и уже сложившийся рынок хайтек, за исключением новобранцев, которые рискнули в последние годы выйти на биржу. Скажу больше: убойная тенденция прослеживается не только в среде высокотехнологичных IPO, но и вообще всего рынка IPO в целом. Рынок в прямом смысле слова загибается на наших глазах!
В 1997 году на американских биржах было 8 800 публичных компаний. В 2012 году — осталось только 4 100! Только вдумайтесь в эту цифру: за пятнадцать лет их число сократилось более чем в два раза! Мы привыкли охать и ахать по поводу изменения макроэкономических показателей на доли процента, а любое — пусть даже микроскопическое — расхождение между опубликованной статистикой и предсказаниями аналитиков (либо рыночными ожиданиями — так называемыми market rumors) сопровождается либо головокружительными обвалами на бирже, либо бравурными спуртами.
Здесь же перед нами не просто качественное изменение состояния фондового рынка, а его полномасштабное «схлопывание», однако в ответ — тишина! Торгующая публика никак не реагирует на тенденции, которые чреваты самыми непредсказуемыми последствиями не только для самой биржи, но и для всей экономики в целом. Да и общественной жизни — тоже. Поразительная близорукость.
Близорукость опасная вдвойне, потому что перед нами — системная проблема, а не какая-то реакция рынка на краткосрочную конъюнктуру. Да и о какой конъюнктуре может идти речь? Обвал, вызванный финансовым кризисом осенью 2008 года, завершился уже к середине 2009-го. С тех пор рынок неудержимо движется вверх вопреки всем прогнозам и пророчествам скорого повторения катаклизмов. Обратите внимание — вместе со всеми движется и хайтек, однако притока новой крови не наблюдается! Нет новых хайтек IPO, нет вообще никаких IPO, этот рынок умер — и данное обстоятельство я рассматриваю именно как системную проблему, как перерождение всей системы.
Повторю главное: проблема не в объективном положении дел в мировой экономике, проблема не в несуществующей стагнации на бирже, проблема в чем-то другом. В чем-то, что мешает выходу IPO на публичный рынок. Что бы это было?
Формально найти прямую причину, которая привела к радикальному изменению отношения к бирже со стороны менеджеров, управляющих высокотехнологичными компаниям, не составляет труда. Сегодня менеджеры чураются процедуры go public как беса потому, что, начиная с 2002 года (точнее — с 30 июля 2002-го: запомните этот день, когда был убит публичный фондовый рынок!) конгрессмены и сенаторы поэтапно ввели в действие новую систему законов, которые внесли в финансово-инвестиционный климат страны качественные изменения.
30 июля 2002 года президент Буш подписал принятый Конгрессом и Сенатом т.н. закон Сарбейнза-Оксли, который довел другую меру — Положение о справедливом раскрытии (Regulation Fair Disclosure), утвержденное Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) двумя годами ранее — до логического конца. Иными словами, окончательно лишил привлекательности процедуру IPO и выход на биржу как таковой.
Подробности этих законов мы рассмотрим в статье для «Бизнес-журнала», пока же констатируем ключевое обстоятельство: общество самостоятельно, добровольно, без малейшего принуждения извне потребовало от деловых кругов новых правил игры на фондовом рынке. Оказалось, однако, что правила эти согласился принять лишь крупный бизнес, который на момент вступления законов в силу уже находился на бирже и обладал капитализацией, достаточной для того, чтобы продержаться на плаву даже при самых неблагоприятных обстоятельствах.