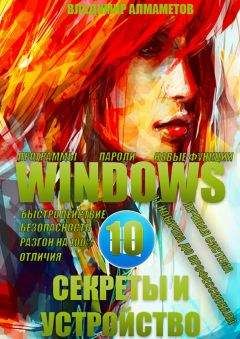Тим Ву - Главный рубильник. Расцвет и гибель информационных империй от радио до интернета
Ключевая метафора в общенациональном обсуждении свободы слова представлена в 1920-х гг. судьей Оливером Уэнделлом Холмсом, который написал: «лучшая проверка истинности идеи — это насколько она может заставить принять себя в рыночной конкуренции, и эта истина — единственная почва для того, чтобы гарантированно воплотить идею в жизнь». Эту концепцию часто называют «рынком идей». Она отражает представление о символическом рынке, на котором каждый обладающий языком, чтобы говорить, и ушами, чтобы слышать, может свободно обмениваться точками зрения и воспринимать мнения, убеждения и разнообразные формы самовыражения. В основе лежит надежда на то, что в таком пространстве правда возьмет свое{220}.
Но что если метафорический «рынок идей» поместить в реальные условия, не такие идеализированные, — на рынки информационных и культурных продуктов? Причем эти рынки либо закрыты, либо выход на них так дорог, что доступен совсем немногим? Если донести до людей свое мнение можно не на городской площади, а через канал информации, вокруг которого построен бизнес, ограничивающий доступ к нему, — в этом случае и речи нет о свободном рынке для информации. С этой точки зрения Кодекс Хейса был барьером на рынке идей. И даже не учитывая его — чем выше порог входа, тем меньше будет идей, которые могут состязаться за внимание.
Штука в том, что централизованная индустрия не нуждается в цензуре по природе — ее структура сама по себе затормаживает процесс свободного самовыражения. Отдельные игроки очень даже могут иметь склонность к этому, но не они являются настоящей проблемой. Проблема в том, что «отрасль слова» — как мы можем назвать любую информационную индустрию — после централизации становится легкой мишенью для внешних независимых субъектов, у которых имеются свои сильные причины ограничивать свободу слова. И эти причины могут не иметь ничего общего с отраслью самой по себе. Католическая церковь 1930-х гг., очевидно, не была киностудией и не имела никаких притязаний в кинобизнесе. Но, имея свои мотивы прекратить определенные формы самовыражения, которые она считала предосудительными, церковь нашла способы сделать это в стиле первейшей американской индустрии культурной и изобразительной продукции. Именно комбинация церкви и голливудской системы создала один из самых поразительных режимов цензуры в истории США.
Один человек
К 1930-м гг. стало понятно, что возможность снять какой-либо фильм в Америке зависит от воли одного человека до такой степени, что в 1936 г. журнал Liberty высказал убедительное мнение, что Джозеф Брин, «возможно, имеет больше влияния на стандартизацию мирового мышления, чем Муссолини, Гитлер или Сталин». Тем не менее сам кинобизнес, католическая церковь и Белый дом приняли эту систему, провозгласив новую эру в американском кино. Элеонора Рузвельт восхваляла новый Кодекс в радиообращении ко всей стране: «Я необычайно счастлива, что киноиндустрия выбрала для себя цензора из своих собственных рядов»{221}.
Правда, Кодекс не всегда работал, как предполагалось. С 1934 г. и далее случались моменты, когда Джозеф Брин одобрял некий фильм, а затем его объявляли недопустимым местные отделения Легиона приличия в других частях страны{222}. Брин проводил много времени в Голливуде, и его непримиримые позиции несколько смягчились. Но нет никаких сомнений по поводу влияния режима Кодекса на саму суть американского кинематографа. «Эпоха кино “до Кодекса” не просто угасла, — пишет Ласалль. — Она была оборвана в самом расцвете, словно топором отрубили»{223}.
Бесспорно, Цукор и его коллеги в других студиях выпустили много фильмов, которые считаются лучшими и самыми любимыми из голливудских кинолент, включая Philadelphia Story («Филадельфийская история») и It’s a Wonderful Life («Эта прекрасная жизнь»), хотя культ последней картины возник лишь много лет спустя, когда культуре остро не хватало нравственной поддержки. Но взамен им пришлось подчиниться режиму, который потребовал соблюдения уважения к власти — и, по сути, обусловил так называемый конец Голливуда. Серьезных вызовов, прямых или косвенных, таким общественным институтам, как брак, правительство, суды или церковь, просто не существует в фильмах 1930-х, 1940-х и 1950-х гг. Другими словами, не было места для выражения даже отдаленно противоречивых взглядов или чего бы то ни было, что ставит под вопрос общепринятый порядок. Социальные проблемы могли подвергаться критике в других областях культуры, но самый мощный рупор того времени молчал о них.
Если бы сегодня Конгресс захотел провести закон, подобный Кодексу, его бы тут же завалили. Тем не менее Кодекс производства — возможно, самый жесткий пример ограничения свободы слова в истории США — работал по двум причинам. Право (согласно патенту, а не Конституции) даже на то, чтобы делать фильмы, находилось в руках всего лишь десятка человек. И эти люди, по чисто коммерческим причинам, сделали себя уязвимыми перед волей одного человека — Джозефа Брина. Чтобы понять историю свободы слова в Америке, мы должны осознать, как такое могло случиться.
Глава 9
FM-радио
В 1934 г. Эдвин Армстронг находился на вершине своей карьеры — во всех смыслах этого слова. Из лаборатории на самом верху нового небоскреба Empire State Building, где была антенна, прикрепленная к шпилю здания, профессор Армстронг испытывал новую радиотехнологию, запуская радиоволны к приемникам за несколько десятков миль. Сигнал был чистым и ясным, создавая четкость звука, неслыханную до этого. «Фактические измерения, — пишет Лоуренс Лессинг, историк радио, — показали четкий прием сигнала далеко за линию горизонта (как минимум в три раза дальше), то есть примерно на 80 миль». Армстронг назвал свое изобретение frequ-ency modulation («частотная модуляция»), сокращенно — FM{224}.
Человека, благодаря которому Армстронг оказался в Empire State Building, звали Дэвид Сарнофф, и с ним мы познакомились на поединке Демпси 14 лет назад. Сарнофф был тогда амбициозным молодым топ-менеджером, одержимым новыми технологиями, например радиовещанием. Теперь он стал президентом Radio Corporation of America, самой главной радиокомпании в стране, владеющей NBC — знаменитой вещательной сетью. Таким образом, Сарнофф был самым могущественным человеком в американском радиовещании, единоличным правителем, от которого зависело развитие информационной индустрии. Таким влиянием, как он, обладали лишь единицы, в числе которых значились Теодор Вейл и Адольф Цукор. По сути, он оказался символом массовой культуры, которая формировала вкусы американцев.
Что же до профессора Армстронга из Колумбийского университета, он представлял собой другой архетип — одинокий изобретатель, который уже долгое время воплощал американский подход к инновациям. Трудясь на своем чердаке в Йонкерсе, Армстронг уже заработал славу, открыв три фундаментальные радиотехнологии: регенеративный приемник, сверхрегенеративный и затем супергетеродинный. Первый из них он изобрел еще студентом. Кроме того, Армстронг обладал весьма живым характером — например, в университет он ездил на ярко-красном мотоцикле. В начале 1920-х гг. его очаровала секретарша Сарноффа, и он купил французскую спортивную машину, чтобы кататься вместе с ней. В другой раз, в приливе восторга, он забрался на радиовышку высотой в 120 метров на крыше нью-йоркской радиостанции WJZ. Но самое главное, Армстронг был непоколебимым радиоидеалистом, которому эта технология всегда казалась волшебной и обладающей безграничным потенциалом{225}.
Будучи энтузиастами раннего радио, Армстронг и Сарнофф подружились 1 февраля 1914 г., когда целую ночь принимали сигналы с помощью разработок Армстронга. Впоследствии Армстронг многие годы посылал Сарноффу в этот день поздравительную телеграмму. По сути, именно Сарноффу он был обязан своим изрядным состоянием, поскольку тот в 1920-е гг. убедил RCA купить патенты Армстронга. На заре радиовещания и изобретатель, и бизнесмен могли жить вместе в общем лагере радиоутопизма.
Где-то в 1920-х гг. Сарнофф поручил Армстронгу разработать «маленькую черную коробочку», которая могла бы удалять помехи и искажения из AM-сигнала. Армстронг принялся работать в этом направлении, и теперь, почти десятилетие спустя, у него имелось решение задачи. Однако это была не «черная коробочка», а новая технология передачи радиоволн. Справедливо восхищенный результатами, Сарнофф за счет RCA организовал Армстронгу рабочее пространство в Empire State Building — самом высоком здании в мире, и распорядился обеспечивать ученого всем, что ему понадобится, для совершенствования технологии{226}.
Но по мере того, как шло время и вдохновляющие результаты исследований продолжали улучшаться, Армстронг заметил нечто странное. Руководствуясь личным доверием к Сарноффу, он позволил ему взглянуть на FM. Кроме того, продажа его последнего патента давала компании возможность приобрести и следующий. И то, что он создал, выходило за рамки поставленной задачи. Фактически его изобретение позволяло RCA развить радиотехнологию до ее полного потенциала. И Армстронг был абсолютно уверен, что оправдал самые смелые ожидания Radio Corporation of America. Однако чем лучше становились результаты испытаний FM, тем более уклончиво и сдержанно вело себя руководство RCA.