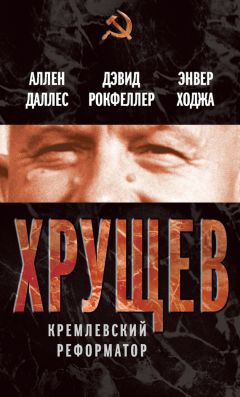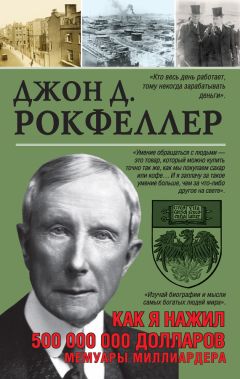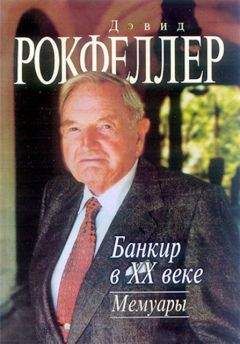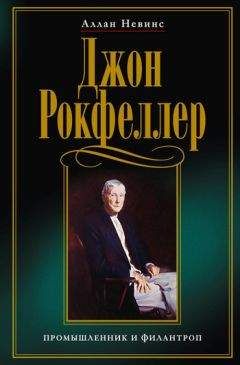«Мир не делится на два». Мемуары банкиров - Рокфеллер Дэвид
Большая часть недвижимости моей семьи находилась в оккупированной зоне, и немцы захватили ее, отказав французским властям в праве контроля. Так была захвачена улица Сан-Флорантен, и особняк на авеню Фош, и особняк, принадлежавший моей сестре. Наш замок Феррьер стал местом отдыха немецких войск, которые чувствовали себя там вольготно и не желали, чтобы их там беспокоили. Все предметы искусства и лучшие из полотен фамильной коллекции из собраний, находившихся в Париже и в замке, были отправлены в Германию, несомненно, по распоряжению Геринга, который рассчитывал их присвоить.
Мои родители, сами того не желая и считая, что поступают наилучшим образом, помогли немцам. Обеспокоенные перспективой войны, все более очевидной, мои родители распорядились упаковать и поместить в бомбоубежище самое ценное из того, что уже долгие годы именовалось «коллекцией Ротшильдов»; большая часть этой коллекции была собрана моим дедом Альфонсом…
К счастью, вся коллекция осталась неразъединенной, и в 1945 году союзническая миссия, в которую входили американские и французские музейные работники, обнаружила ее на дне соляной копи. Что касается лошадей, вывезенных в Германию для улучшения пород немецких лошадей, то служащим конезавода тоже удалось возвратить большую их часть благодаря наличию специальных книг с описанием примет и, надо сказать, по доносам самих немцев, которым хотелось получше выглядеть в глазах союзников. Как видим, доносительство свойственно не одним только французам…
Собственность, находившаяся в свободной зоне, была конфискована властями. Так, вилла моих родителей в Каннах оказалась «купленной» городом.
Основными видами собственности были банк и ценные бумаги.
При этом в моем владении оставалась только моя часть собственности. Хорошо, что назначенные властями чиновники не слишком усердствовали. В массе своей они были настроены против немцев, а многие из них уже успели стать голлистами. В конце концов, власти, не будучи в состоянии разобраться в столь сложных делах моей семьи, оставили мне руководство этой акцией.
Правительство распорядилось выставить на продажу всю собственность и ценные бумаги моей семьи. Однако покупателей не находилось. Моим сотрудникам все-таки удалось отыскать клиентов, большинство из которых согласились передать нам предварительные заказы, предусматривающие последующий выкуп собственности в будущем, когда «Ротшильдам вновь улыбнется фортуна». Таким образом большая часть пакетов ценных бумаг оказалась в руках друзей.
Принятием решений относительно банка занимался чиновник по фамилии Моранс. Он начал с того, что изучил всю ситуацию и продиктовал секретарю длинный отчет. Секретарь, печатавший этот документ, менял копирку каждый раз, когда кончался очередной лист бумаги. Благодаря этой хитрости, с помощью зеркала я познакомился с содержанием этого текста. Выдержанный в нейтральном духе, он был не добрым и не злым, его автор явно стремился избежать лишних неприятностей. Моранс действовал в соответствии с законом, но без излишних придирок, он вел себя учтиво и не старался чересчур усердствовать, чтобы разделаться с нами.
Как и многие из моих знакомых, я подумывал об отъезде, — прежде всего я хотел навестить моих родителей. Вопрос о том, где и как вновь начать участвовать в военных действиях, встал передо мной несколько позднее. Решение уехать далось мне не так легко. Уехать — означало покинуть моих соотечественников в тяжелое для них время; быть может, я просто придумываю себе причины, чтобы оправдать бегство в Америку, где меня ждут комфортная жизнь и безопасность. Явно действовала вишистская пропаганда: уехать — значит дезертировать. Я чувствовал свою вину перед друзьями, которые были обречены оставаться. В то же время у меня не было чувства, что я «предаю родину», я испытывал ненависть к нацистам.
Рене Фийону — моему прежнему наставнику, моему сотруднику и другу, по-видимому, необходимо было утвердиться в качестве патриота Франции, истинного француза. Он мне постоянно повторял, что я напрасно всерьез воспринимаю декрет о статусе евреев, призывал не верить в возможную оккупацию свободной зоны, в то, что мне грозит хоть какая-то опасность. Он считал, что продолжение борьбы для меня не более, чем красивая фраза, которая простейшим образом помогает мне обрести моральное спокойствие, и, пожалуй, он тоже был недалек от мысли, что покинуть Францию — то же самое, что «перейти на сторону врага».
До сих пор эта дилемма тех лет меня удивляет. Как мог я из щепетильности замкнуть себя в кругу ложных проблем? Ведь оставалось так мало времени для серьезных решений, касающихся как работы, так и собственно моей жизни! Я все еще не понимал таких простых истин, что из двух решений следует выбирать менее плохое, что все не могут думать и действовать одинаково, и что, выслушав мнения других, нужно прислушаться к собственному мнению и поступать только так, как подсказывает собственный разум.
Какое-то время мы с Алике колебались, но постепенно сомнения сами по себе исчезли.
Мы приняли решение, но его еще следовало как-то претворять в жизнь. Чтобы уехать из страны, требовалось оформить документы, получить американскую визу. Эта последняя формальность была самой простой благодаря добрым отношениям моих родителей с госпожой Рузвельт. Совсем другое дело — французы. Закон запрещал выезд из страны граждан призывного возраста. Я довольно быстро понял, что в отношении евреев, граждан для страны нежелательных, допустимо отступление от этого закона. Но мое имя было слишком знакомым для страны, и адмирал Дарлан боялся, что немцы осудят его действия, если он позволит мне покинуть пределы Франции. (Я узнал об этом только благодаря другу, Мигелю Анхелю Каркано — послу Аргентины во Франции.)
Я занимался всеми этими проблемами, когда представилась возможность поехать в Марокко, где моя семья имела ряд предприятий. Весной мы с Алике сели на теплоход, отправлявшийся в Касабланку. Нам стало известно, что комиссию по перемирию в Марокко возглавлял немецкий дипломат по фамилии Ауэр, которого Алике и ее первый муж знали еще до войны. Она вспомнила, как тогда Ауэр открыто говорил о своих антифашистских настроениях, одобрял свободные высказывания, всякий раз демонстрируя свою осведомленность. Мы решили поговорить с этим человеком, если удастся с ним увидеться. Судьбе было угодно, чтобы мы встретили его сразу по прибытии в отель, и он пригласил нас к себе на стакан вина.
Ауэр только что вернулся из Берлина, он сказал нам, что ходят упорные слухи: Германия должна напасть 22 июня на Россию. Уже на следующий день я передал молодому американскому консулу в Марокко сведения, которым суждено было стать одними из важнейших за всю войну. Никто не принял их во внимание, впрочем, весьма вероятно, что эти сведения уже опоздали. После войны Роберт Мэрфи — тогдашний посланник в Северной Африке — потребовал провести расследование причин такой халатности. Что касается нас с Алике — мы были просто ошеломлены, услышав 22 июня по радио подтверждение этой важной информации.
Спустя некоторое время мы приехали на несколько дней в Марракеш. В холле отеля «Мамунья» группа итальянских офицеров в открытую шумно обсуждала молниеносное наступление армии союзника. Их радостное возбуждение казалось нам чудовищным.
После нескольких недель пребывания в Марокко мы поняли, что у нас нет шансов получить разрешение на выезд или просто убежать — здесь за нами следили еще более пристально, чем во Франции. Уладив дела моей семьи, я впал в полнейшее отчаяние; я не знал, что предпринять; мне оставалось только читать газеты. Редкие обеды с Мишелем Дебре — моим другом детства — и его женой Нинетт были для меня праздником и некоторой моральной поддержкой.
Мы уже решили возвращаться во Францию, когда узнали, что министром внутренних дел только что назначен Пьер Пюшё. До войны я много раз встречался с ним, будучи посредником в переговорах по поводу одного соглашения. Мы остались с ним в дружеских отношениях. Он был тесно связан с группой Вормса — этими опередившими время технократами; мне он показался человеком энергичным, честным и в то же время умным и рассудительным. Через одного из многих сотрудников, близкого друга нас обоих, я обратился к нему с просьбой о выездной визе. Через некоторое время я получил мой паспорт с припиской Пюшё следующего содержания: «Евреи принесли слишком много зла моей стране, но Ги всегда был добропорядочным гражданином; если ему суждено начать свою жизнь сначала, я счастлив позволить ему уехать». Благоприятная оценка моей скромной персоны делала какие бы то ни было комментарии недопустимыми.