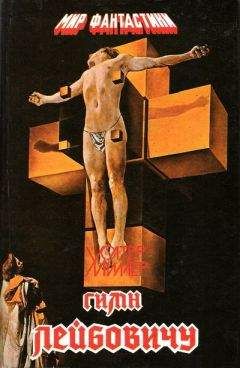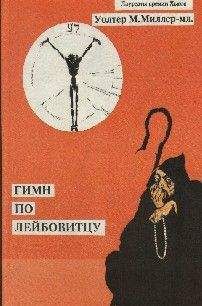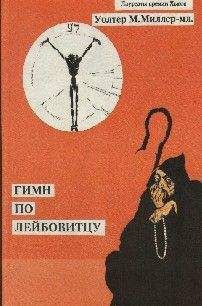Гимн Лейбовичу (Другой перевод) - Миллер-младший Уолтер Майкл
Пристыженный своим страхом, он попытался молиться, но молитвы выходили какими-то богохульными — они были больше похожи на оправдание, а не на мольбу, как будто последняя молитва уже произнесена и последний гимн уже пропет. Страх упорствовал. Почему? Он пытался выяснить причину. «Ты же видел, как умирают люди, Джет. Много раз видел смерть. Это выглядело очень легко. Они съеживались перед концом, затем небольшой спазм — и все кончено. Чернильная Тьма — чернейший Стикс, пропасть между Богом и человеком. Послушай, Джет, ты же действительно веришь, что по ту сторону нее есть Нечто, не правда ли? Так почему же ты так дрожишь?»
Стих из Dies Irae [188] промелькнул в его мозгу и застрял в нем:
Quid sum miser tune dicturur? Quern patronum rogaturus, Cum vix Justus sit securus? [189]«Что же я, несчастный, должен тогда сказать? Кого я должен призвать себе в защитники, если даже праведник с трудом спасется? Vix securus? Почему „с трудом спасется“? Наверное, Он не проклянет праведных? Так почему же ты так дрожишь?
Воистину, доктор Корс, зло, к которому можно было бы отнести и вас, есть не страдания, а только беспричинный страх перед страданием. Metus doloris. [190]
Соедините его воедино с его же позитивным эквивалентом — страстным стремлением к земной беззаботности, к Эдему, и вы получите ваш «корень зла», доктор Корс. Уменьшение страдания и увеличение беззаботности было естественной и соответственной целью общества и правителей. Но потом это стало единственной целью, а единственной основой закона — его извращение. И тогда, стремясь только к ним, мы неизбежно обрели их противоположности: максимум страдания и минимум беззаботности.
Все беды мира от меня. Проверьте это на себе, мой дорогой доктор Корс. Твое, мое, Адама, Человека, наше. Нет «земного зла» за исключением того, что было принесено в мир человеком — мной, тобой, Адамом, нами — с небольшой помощью отца лжи. Обвиняя всех, обвиняй даже бога, но, ох, не обвиняй меня. Так что ли, доктор Корс? Единственным злом мира в данный момент, доктор, является тот факт, что мир прекратил свое существование. Что причиняет боль?»
Он слабо рассмеялся, и снова — всплеск темноты.
— Моя вина, наша, Человека, Адама, но не Христа, — проговорил он вслух. — Знаете что, Пат? Они… вместе… лучше быть распятым, но не одиноким… когда истекают кровью… хочется вместе… Это потому… это потому же… Это потому же, почему Сатана хочет наполнить ад людьми. Потому что Адам… И еще Христос… Но мне до сих пор… Послушайте, Пат…
На этот раз потребовалось больше времени, чтобы выплыть из Тьмы, но он должен был объяснить все Пату, прежде чем погрузиться в нее навсегда.
— Послушайте, Пат, это потому же… почему я говорил ей, что ребенок… почему я… Я думаю… Я думаю, Иисус никогда не требовал, чтобы человек совершал те ужасные поступки, которые сам Иисус не совершал. Поэтому же и я… Поэтому же и я не мог допустить. Пат?
Он моргнул несколько раз. Пат исчез. Мир снова застыл в неподвижности, но чернота отступила. Вдруг он понял, чего именно он боялся. Это было то, что он должен был исполнить, прежде чем Тьма навсегда сомкнется над ним. Господи, дай мне возможность жить, пока я не исполню это. Он теперь боялся, что умрет раньше, прежде чем воспримет столько страдания, сколько выпало ребенку, который не мог понять его, ребенку, которого он пытался сохранить для новых страданий… нет… не для страданий, а несмотря на страдания. Он приказывал матери именем Христа. Он не совершил ошибки. Но теперь он боялся провалиться в темноту, прежде чем вынесет столько, сколько Бог поможет ему вынести. Quern patronum rogaturus, Cum vix Justus sit securus?
Пусть это будет для девочки и ее матери. Я должен исполнить то, чего требовал от других. Fas est. [191]
Эта мысль, казалось, ослабила боль. Некоторое время он лежал тихо, затем осторожно оглянулся назад, на кучу камней. Нет, там, позади, больше пяти тонн. Там восемнадцать веков. Взрывная волна, очевидно, разнесла склепы: он обнаружил несколько костей, застрявших среди камней. Он пошарил свободной рукой, наткнулся на что-то гладкое, и, в конце концов, вытащил его и опустил на песок рядом с дароносицей. Челюсти не было, но сам череп был в полной сохранности, за исключением отверстия во лбу, в котором торчала сухая и наполовину сгнившая щепка. Она была похожа на обломок стрелы. Череп, очевидно, был очень старым.
— Брат… — прошептал он, потому что никто другой, кроме монаха ордена, не мог быть похоронен в этих склепах.
«Что ты делал для них, Череп? Учил их читать и писать? Помогал им отстроиться, нес им слово Христово, помогал восстановить культуру? Не забывал ли ты предостеречь их, что Эдема уже никогда не будет? Конечно, предостерегал. Благословляю тебя, Череп, — подумал он и начертил большим пальцем крест у него на лбу. — За все твои страдания они отплатили тебе стрелой между глаз. Потому что там, позади, лежит больше, чем пять тонн камня и восемнадцать столетий. Я полагаю, что там лежат около двух миллионов лет — начиная с первого Homo innspiratus. [192]»
Он снова услышал голос, нежный голос-эхо, отвечавший ему некоторое время назад. На этот раз он напевал детскую песенку: «Ла ла ла, ла-ла-ла…»
Хотя он казался тем же голосом, который Зерчи слышал в исповедальне, он наверняка не мог принадлежать миссис Грейлес. Миссис Грейлес простила Бога и побежала домой, если вовремя успела выбраться из часовни — и будь добр, прости, Господи, это новшество — обратное отпущение грехов. Хотя он не был уверен, что это было новшеством.
«Послушай, Старый Череп, мог бы я так сказать Корсу? Послушайте, дорогой Корс, почему вы не прощаете Богу то, что он допустил боль? Если бы Он не допустил ее, человеческая отвага, мужество, благородство и самопожертвование стали бы бессмысленными вещами. Кроме того, вы остались бы без работы, Корс.
Может быть, это как раз то, о чем мы забываем упомянуть, Череп. И когда мир наполнился горечью из-за того, что в нем недоставало наполовину забытого Эдема… бомбы и взрывы. Горечь была прямо направлена против Бога. Послушай, Человек, ты должен отбросить горечь — «чтобы даровать Господу отпущение его грехов», как сказала она — скорее, чем что бы то ни было, скорее, чем любовь.
Но — бомбы и взрывы. Они не простили».
На какое-то время он забылся. Это был настоящий сон, а не то страшное небытие Тьмы. Прошел дождь, смывая пыль. Когда он проснулся, он был не один. Он оторвал голову от грязи и сердито посмотрел на них. Три канюка сидели на куче камней и разглядывали его с мрачной серьезностью. Он пошевелился. Они раскрыли черные крылья и обеспокоенно зашипели. Он кинул в них камень. Двое поднялись на крыло и стали кружить над ним, но третий остался на месте, слегка пританцовывая и пристально глядя на человека. Черная и безобразная птица, но непохожая на ту, другую Тьму. Этой нужно только тело.
— Обед еще не совсем готов, братец, — раздраженно сказал он ему. — Тебе придется обождать.
Не так уж много обедов ожидает его впереди, отметил он, прежде чем этот канюк сам станет обедом для другого. Его перья были обожжены, один глаз закрыт. Птица была мокрой от дождя, а аббат полагал, что дождь сам по себе смертелен.
— …ла ла ла, ла-ла-ла, жди, жди, пока он умрет, ла…
Голос снова вернулся. Зерчи с испугом подумал, что это галлюцинация. Но канюк тоже слышал его. Он разглядывал что-то вне поля зрения Зерчи. В конце концов он хрипло зашипел и поднялся в воздух.

— Помогите! — слабо крикнул аббат.
— …помогите, — бессмысленно повторил странный голос. И он увидел двухголовую женщину, обходящую груду камней. Она остановилась и посмотрела вниз, на Зерчи.