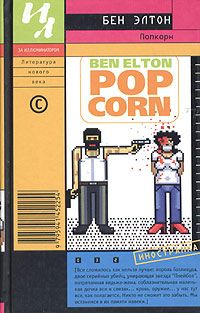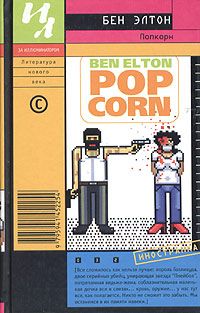Время и снова время - Элтон Бен
– Превосходно.
– Что – превосходно? К чему все это, профессор?
– Всему свое время, Хью, – сказала Маккласки. – Погода скверная, у нас впереди целый день. Где ты вообще обитаешь? Дома тебя не было, но ты не мог провести три месяца на Лох-Мари. Даже ты не пережил бы морозов, какие ударили в прошлом ноябре.
– Туда-сюда мотаюсь, – ответил Стэнтон. – Гостиницы, общаги. Только чтоб поспать. В дороге легче скоротать время.
– Скоротать до чего?
– До смерти, надо думать.
– Выходит, ты просто сдаешь позиции?
– Какие позиции? Мир-бардак мне не интересен. И я сам себе тоже.
– А что сказала бы Кэсси?
– Кэсси ничего не скажет. Она умерла.
– Но ты же солдат, Хью. Даже если тебя вышибли. Хорошие солдаты не сдаются.
Стэнтон усмехнулся. Нынче такие сентенции услышишь не часто. Даже в армии старомодные понятия храбрости и чести вызывали большое подозрение. Как недостаточно «емкие».
В дверь постучали. Прибыл завтрак.
– Все путем, Сэлли, – сказал рассыльный, когда профессор расписалась в квитанции. – Отдыхайте, Сэл.
Стэнтон никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл Маккласки по имени, да еще в уменьшительной форме.
– Ну да, я Сэл. – Профессор закрыла дверь за рассыльным. – Новая культурная уравниловка не делает исключений. Самое смешное, что сколько бы люди ни называли друг друга по имени, все равно богатые богатеют, бедные нищают и всем на всех наплевать. Разве жизнь не прекрасна?
– Послушайте, профессор. – Стэнтон принял тарелку с жареной едой. – Может, все-таки объясните, зачем вы меня позвали?
– Я попробую, Хью, но сейчас ты сам поймешь, что это совсем не просто.
– Попытайтесь.
Маккласки принялась уплетать яичницу с беконом, которую, к отвращению Стэнтона, полила медом.
– Я знала, что с этим будет нелегко, – с набитым ртом проговорила она. – Давай начнем вот с чего. Если бы ты мог изменить один исторический факт… Если б появилась возможность перенестись в прошлое и в определенном месте, в определенное время что-то одно изменить, куда бы ты отправился? Что бы ты сделал?
– Профессор, вы прекрасно знаете, что я…
– Хью, я о другом. Ты не можешь вернуться в Кэмден и удержать жену и детей на тротуаре. Я хочу услышать не субъективный, а объективный ответ. Речь не о тебе и твоей личной трагедии. Я говорю о всех нас и глобальной трагедии. О человечестве.
– Да пошло оно, человечество. Наша вонючая кучка протянет еще поколение-другое. И поделом. Без нас вселенная будет лучше.
– Разве мы такие уж неисправимые? – спросила Маккласки.
– А разве нет?
– Конечно нет. Те, кто производит на свет Шекспира и Моцарта, небезнадежны. Мы просто сбились с пути, вот и все. Но если б нам дали шанс исправиться? Всего один шанс. Сделать один ход в великой исторической игре. Что бы ты выбрал? Что, на твой взгляд, стало величайшей ошибкой в мировой истории и, самое главное, какой твой единственный поступок смог бы ее предотвратить?
– Вся человеческая история – страшное бедствие, – не сдавался Стэнтон. – Если хотите ее исправить, отправляйтесь на двести тысяч лет назад и пристрелите обезьяну, которая первой попыталась выпрямиться и ходить на двух ногах.
– Не пройдет. Словоблудие не принимается. Я хочу получить настоящий ответ, подкрепленный фактами.
– Скучаете по студентам, профессор? – спросил Стэнтон. – Праздник не в праздник без ваших «Что, если бы»?
– Если угодно.
– Не угодно. Я не расположен к игрищам, честно.
– Ты вообще ни к чему не расположен. Сам сказал, что просто коротаешь время до смерти и других дел у тебя нет. Однако завтра Рождество, а на улице минус десять. Так поблажь мне. Позавтракай. Прими еще коньячку и окажи услугу старой одинокой карге, размечтавшейся о компании. Она знала, что ты свободен. Ведь ты одинок больше, чем она сама.
Стэнтон посмотрел в окно. Надвигался буран. Перспектива сочельника в дешевой гостинице казалась малопривлекательной даже тому, кто не особо стремился жить. А в теплой гостиной было полно уютных вещиц, появившихся на свет еще до рождения Стэнтона, Кэсси и их детей. Книги, картины, антиквариат. Стэнтон прикрыл глаза и отхлебнул чаю с коньяком. Похоже, он уже слегка захмелел. Такого приятного легкого кайфа не было с тех пор, как…
Стэнтон стряхнул задумчивость и сфокусировался на собеседнице.
– Ладно, профессор, – согласился он. – По случаю Рождества.
– Значит, играем! – Маккласки потерла руки с испятнанными никотином пальцами. – Давай, постарайся. В чем самая крупная ошибка человечества? Что стало его самой большой бедой?
Словно по заказу, в окно ударил ледяной шквал, грозя высадить стекло. Градины размером с мраморный шарик колотили по раме, предусмотрительно укрепленной на случай участившейся непогоды.
– Ну вот вам и ответ, – кивнул на окно Стэнтон. – Изменение климата. Весьма заметное, верно? Землетрясения, цунами, засухи, наводнения, торнадо, маленькие ледниковые периоды. Гольфстрим смещается, и в один чудесный день Восточный Сассекс превратится в Северную Канаду. Еще пара неурожайных лет – и весь мир окажется на грани голода.
– Изменение климата – это следствие, Хью, – решительно возразила Маккласки. – Результат глобального потепления, которое тоже есть следствие. В частности, сжигания углерода, благодаря которому движется автомобиль. Ты отменишь изобретение машин?
– Только не я, профессор. Я, знаете ли, автомобильный фанат. По-моему, ради идеально отлаженного двигателя вполне можно пожертвовать парочкой айсбергов.
– Тогда долой центральное отопление? Заморозку продуктов? Инкубаторы для недоношенных? Лифты для инвалидов? Мы не расцениваем все эти штуки как бедствие, верно? Но все они вносят свой вклад в глобальное потепление. Отменяем их?
Стэнтон почувствовал себя студентом, которого препод кладет на обе лопатки.
– Тут вопрос степени, верно? – Он пытался отстоять свою версию. – Конечно, выгоды бесспорны, но остается фактом, что со времени промышленной революции…
– Ты считаешь ее бедствием? – радостно перебила Маккласки. – И хотел бы предотвратить? Событие, которое наделило миллиарды людей здоровьем и достатком? Дешевая еда, дешевая одежда, дешевая энергия. Целые народы получили удобства, какие прежде не снились и королям. Промышленная революция – не единичное событие, но результат бесчисленных научных и технологических прорывов. Началом ее послужило не что-то одно, даже не изобретение прядильной машины, как некогда учили в школе. А я разрешаю тебе изменить только одну вещь. Так что извини, Хью, промашка. Придется сделать еще попытку.
Впервые за полгода с лишним Стэнтон чуть не рассмеялся. Странное чувство. Однако внутри чуть отпустило.
– Ладно, профессор, выкладывайте.
– Что выкладывать?
– Ясно же, что у вас есть ответ. Вы просто хотите погонять меня, прежде чем выдать свой вариант. Как в студенческие времена. Я могу назвать что угодно. Изобретение пороха. Расщепление атома. Экспорт оспы в Новый Свет и импорт сифилиса. Водопровод, который сами же римляне загубили свинцовыми трубами. Вы все отметете, потому что знаете, чем дело кончится.
Маккласки осушила чашку и вновь плеснула себе коньяку.
– Ты прав и не прав, Хью, – сказала она. – Да, у меня есть ответ, но я, конечно, не знаю, чем дело кончится, этого не знает никто на свете. Однако я знаю, где все началось. Вообще-то в этой самой комнате. Возможно, в этих самых креслах. Двести девяносто семь лет назад.
Стэнтон подсчитал в уме:
– В 1727 году?
– Именно в 1727-м.
Маккласки отодвинула тарелку с недоеденной яичницей и положила ноги в кроссовках на маленький пуфик. Потом достала старую, хорошо обкуренную трубку и пальцами в бурых пятнах набила ее табаком, который россыпью держала в кармане шинели.
– Ничего, если я покурю, пока ты еще ешь? Да, нарушение правил, запрещающих курение ближе пятидесяти метров от человека или здания. Но что толку быть главой колледжа, если не можешь главенствовать в собственной гостиной?