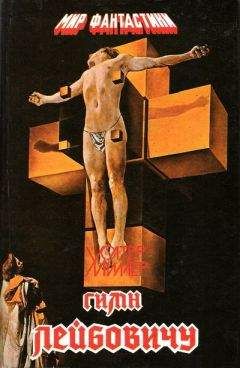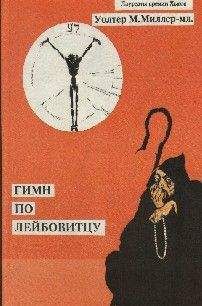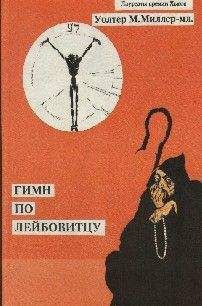Гимн Лейбовичу (Другой перевод) - Миллер-младший Уолтер Майкл
Det: R'dissimo Domno Paulo de Pecos, AOL, Abbat, [81] (монастырь братьев-лейбовичианцев, в окрестностях местечка Санли-Бувитс, что в Юго-Западной пустыне, империя Денвер), cui saratem dicit: Marcus Apollo. Papatiae Apocrisarius Texarkanae. [82]
— Да, это самое. Прочитай мне его, — сказал аббат нетерпеливо.
— Accedite ed eum… [83]
Монах осенил себя крестом и пробормотал обычное благословение текста, которое произносилось перед чтением или письмом с такой же пунктуальностью, как и благословение пищи. Сохранение грамотности и знания в течение темного тысячелетия было главной задачей братьев ордена Лейбовича, и этот маленький ритуал неизменно напоминал об этой задаче.
Окончив благословение, монах развернул свиток против солнечных лучей, так что тот стал прозрачным.
— Jterum oportet apponere tibi crucem ferendam, amice [84]… Он читал чуть нараспев, выхватывая слова из цветистого леса фраз. Аббат прислонился к парапету и слушал, наблюдая за канюками, которые кружились над столовой горой Последнего Прибежища.
— «…Снова оказывается необходимым возложить на тебя крест, старый друг мой и пастырь близоруких книжных червей, — монотонно тянул чтец, — но, вероятно, ноша сия на этот раз будет иметь привкус триумфа. Оказалось, что в конце концов Шеба все-таки отправляется к Соломону, несмотря то, что не исключается обвинение его шарлатанстве. Настоящим извещаю тебя, что дон Таддео Пфардентрот, доктор естественных наук, мудрейший из мудрых, ученейший из ученых, светловолосый внебрачный сын некоего князя и божий дар „пробуждающему поколению“, решил наконец нанести тебе визит, потеряв всякую надежду перевезти вашу Книгу Памяти в здешнее прекрасное королевство. Он появится в праздник Успения, если сумеет ускользнуть по пути от шаек грабителей. Он прибудет к вам со своими сомнениями и небольшим конным отрядом, следствием благосклонности Ханегана Второго, чья дородная фигура и сейчас нависает надо мной, в то время как я, ворча и хмурясь, пишу эти строки, которые мне приказал написать его величество и в которых его величество предложил мне представить тебе его родственника, дона, в надежде, что ты будешь почитать его надлежащим образом. А поскольку секретарь его величества лежит в постели с подагрой, я буду писать тебе обо всем честно и беспристрастно.
Во-первых, позволь мне предостеречь тебя от этого дона Таддео. Обращайся с ним со своей обычной учтивостью, но не доверяй ему. Он блестящий ученый, но ученый светский и политический заложник государства. А государство здесь — это Ханеган. Кроме того, дон Таддео, похоже, антиклерикал или, по крайней мере, отрицательно относится к монастырям. После его рождения, кстати, приведшего двор в некоторое замешательство, он был тайно отправлен в монастырь бенедиктинцев и… Но нет, лучше расспроси об этом курьера…»
Монах поднял взгляд от письма. Аббат все еще наблюдал за канюками над Последним Прибежищем.
— Вы слышали о его детстве, брат? — спросил дон Пауло.
Монах кивнул.
— Продолжайте.
Чтение продолжалось, но аббат уже не слушал. Он знал это письмо наизусть, но все же чувствовал, что уловил еще не все, что Маркос Аполло пытался сказать что-то между строк. Маркус хотел предостеречь его… но от чего? Тон письма был несколько вольный, но в нем было несколько зловещих несоответствий, причем их можно было сложить в некое мрачное соответствие, если только суметь правильно это сделать. Какая опасность могла таиться в том, что светский ученый будет изучать документы в аббатстве?
Курьер, доставивший письмо, сообщил, что дон Таддео с младенчества воспитывался в монастыре бенедиктинцев, на этом настояла жена его отца. Отцом дона был дядя Ханегана, а матерью — камеристка. Графиня, законная жена графа, не возражала против любовных увлечений мужа, пока эта простая служанка не родила графу сына, которого он давно хотел. Сама она рожала графу одних дочерей, и ее взбесило, что простолюдинка взяла над ней верх. Она сослала ребенка, выпорола и прогнала камеристку, и восстановила свою власть над графом. Графиня сама пыталась родить от графа ребенка мужского пола, чтобы защитить свою честь, но сумела лишь дать ему еще трех девочек. Граф терпеливо ждал пятнадцать лет. Когда она умерла от выкидыша (опять девочка), он сразу же отправился к бенедиктинцам, забрал мальчика и сделал его своим наследником.
Но юный Таддео из рода Ханеганов-Пфардентроттов вырос озлобленным. Все детство до самой юности он провел вне города и двора, где наследником трона был его двоюродный брат. Если бы его родители полностью игнорировали его, он смог бы достигнуть зрелости, не возненавидев своего положения отверженного. Но и отец, и камеристка, чье чрево его выносило, навещали его достаточно часто, чтобы он помнил о том, что создан из плоти, а не из камня, и таким образом давали повод смутно подозревать, что он лишен той ласки и любви, на которую имел право. К тому же принц Ханеган, посланный на один год в тот же монастырь, всячески помыкал своим незаконнорожденным кузеном, превосходя его во всем, кроме умственных способностей. Юный Таддео ненавидел принца с тихой яростью и старался превзойти его, где это было возможно, хотя бы в учении. Это состязание кончилось ничем: принц на следующий год покинул монастырскую школу таким же безграмотным, каким и приехал, не прибавив к своему образованию ни единой здравой мысли. Тем не менее его ссыльный кузен продолжал состязание в одиночку и победил его с честью. Но эта победа была призрачной, поскольку нимало не обеспокоила Ханегана. Дон Таддео, презиравший весь двор Тексарканы, все же с юношеской непоследовательностью охотно возвратился к этому двору, чтобы стать наконец официально признанным сыном своего отца, простив, по-видимому, всех, кроме покойной графини, сославшей его в монастырь, и монахов, опекавших его в изгнании.
«Вероятно, он представляет себе наш монастырь тюрьмой, — подумал аббат. — Этому, должно быть, способствуют горькие воспоминания детства, наполовину стертые и, может быть, отчасти выдуманные».
— «…сеют семена раздора на грядках Нового Образования, — продолжал чтец. — Так что будь осторожен и следи за возможными симптомами.
Но, с другой стороны, не только его величество, но веления добросердечности и справедливости также требуют, чтобы я рекомендовал его тебе как человека с добрыми намерениями, или, по крайней мере, как незлобивого ребенка, больше всего похожего на образованных и воспитанных язычников (хотя, несмотря ни на что, они остаются язычниками). Он будет вести себя прилично, если ты будешь тверд, но… будь осторожен, друг мой: его мозг похож на заряженный мушкет, готовый выстрелить в любом направлении. Я полагаю, однако, что у тебя достанет изобретательности и радушия, чтобы управляться с ним некоторое время.
— Quidam mihi calix nuper espletur, Paule. Precamini ergo Deum facere me fortiorem, Metio ut hie pereat. Spero te et fratres saepias oraturos esse pro tremescente Marco Apolline. Valete in Christo, amid.
Texarkanae datum est Octava St. Petri et Pauli, Anno Domini termiilessimo… [85]
— Дай мне еще раз взглянуть на печать, — сказал аббат.
Монах протянул ему свиток. Дом Пауло поднес его к самым глазам, вглядываясь в расплывшиеся буквы, оттиснутые в нижней части пергамента с помощью деревянной печати, плохо смазанной чернилами.
«Одобрено Ханеганом Вторым, владыкой милостью божьей, правителем Тексарканы, защитником веры и духовным пастырем Равнины.
Его собственноручный знак: +».
— Интересно, не поручил ли его величество кому-нибудь прочитать это письмо? — засомневался аббат.
— Будь это так, мой господин, разве письмо дошло бы до нас?
— Думаю, что нет. Но писать всякие легкомысленные вольности под самым носом у Ханегана только ради насмешки над его неграмотностью — это не похоже на Маркуса Аполло. Разве что он пытался что-то сообщить мне между строк и не мог придумать для этого другого, более безопасного способа. Это место в конце письма, где он говорит о некоей чаше, которая, как он опасается, не минует нас. Совершенно ясно: его что-то беспокоит. Но что? Это не похоже на Маркуса, совсем не похоже.