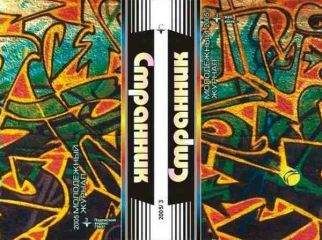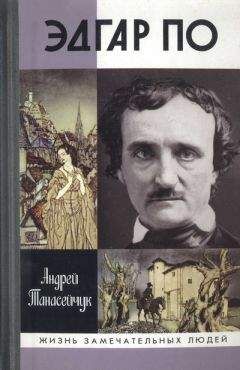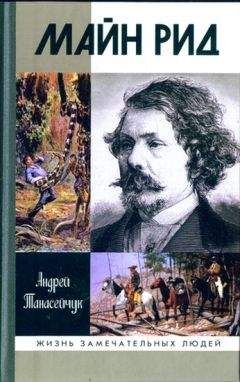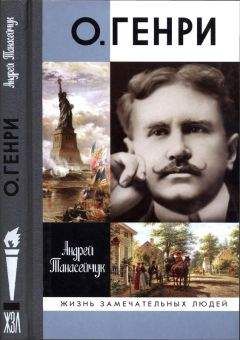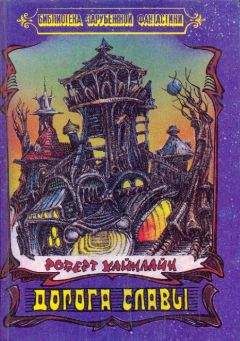Наставники Лавкрафта (сборник) - Джеймс Монтегю Родс
В конце концов я стал настолько бледным и истощенным из-за нехватки отдыха и постоянных размышлений о моей безумной любви и ее жестоких обстоятельствах, что решил предпринять некоторые усилия, чтобы отвлечься от нее. «Слушай, – сказал я себе, – пусть и лучшая в мире, но это фантазия. Твое воображение наделило Анимулу обворожительностью, которой она на самом деле не обладает. Изоляция от женского общества породила это болезненное состояние рассудка. Сравни ее с прекрасными женщинами своего собственного мира, и это фальшивое очарование исчезнет».
Мой взгляд случайно упал на газеты. Я увидел рекламу знаменитой танцовщицы, каждую ночь выступавшей у Нибло. Сеньорита Карадольче имела репутацию самой прекрасной и самой изящной женщины в мире. Я немедленно оделся и отправился в театр.
Занавес поднялся. Полукруг из фей в белом муслине, стоящих на пуантах на правой ноге, окружал украшенный цветами зеленый склон, на котором спал застигнутый ночью принц. Неожиданно слышится флейта. Феи начинают танцевать. Деревья раздвигаются, все феи замирают на пуантах на левой ноге, и входит королева.
Это была Сеньорита. Под гром аплодисментов она устремилась вперед и, оттолкнувшись одной ногой, взмыла в воздух. Пресвятые небеса! И это была прелестница, к ногам которой падали короли? Эти тяжелые, мускулистые конечности, эти толстые щиколотки, впалые глаза, неживая улыбка, грубо раскрашенные щеки! Где же алый румянец, влажные, выразительные глаза, гармоничные очертания Анимулы?
Сеньорита танцевала. Какие грубые, неизящные движения! Игра ее конечностей была насквозь фальшивой и искусственной. Ее прыжки были болезненными атлетическими усилиями, ее позы были угловатыми и не радовали глаз. Я не мог этого больше выносить; c возгласом отвращения, обратившим на меня все взоры, я поднялся из своего кресла в самой середине pas-de-fascination Синьориты и торопливо покинул театр.
Я поспешил домой, чтобы снова усладить свой взор прекрасными очертаниями моей сильфиды. Я чувствовал, что отныне бороться с этой страстью будет невозможно. Я припал к линзе. Анимула была здесь, но что случилось? Какие-то ужасные изменения произошли, пока я отсутствовал. Казалось, какое-то скрытое горе омрачило ее черты. Ее лицо стало худым и изможденным, ее конечности тяжело повисли, чудесное сияние ее волос померкло. Она была больна – больна, и я ничем не мог ей помочь! В тот момент, полагаю, я бы отверг все притязания на право быть человеком, если бы только мог уменьшиться до размера микроорганизма и облегчить страдания той, с которой судьба навечно меня разделила.
Я ломал голову над разгадкой этой тайны. Что так мучило сильфиду? Она, казалось, страдала от сильной боли. Черты ее лица исказились, она даже скорчилась, словно в агонии. Чудесный лес, похоже, тоже потерял половину своей красоты. Его цвета потускнели, а местами полностью исчезли. Часами я наблюдал за Анимулой с болью в сердце, и она угасала у меня на глазах. Внезапно я вспомнил, что не смотрел на каплю воды уже несколько дней. На самом деле я ненавидел смотреть на нее, ведь она напоминала мне о природном барьере между мной и Анимулой. Я торопливо посмотрел вниз на подставку. Предметное стекло было здесь. Но, пресвятые небеса! Капля исчезла! Кошмарная правда обрушилась на меня: она испарялась, пока не сделалась настолько крошечной, что ее стало невозможно увидеть невооруженным глазом. Я смотрел на ее последний атом, тот самый, в котором была Анимула, – и она умирала!
Я вновь бросился к линзе и посмотрел сквозь нее. Увы! Ее сотрясала последняя агония. Все радужные леса растаяли, и Анимула слабо билась в том, что казалось пятном тусклого света. Ах, это было ужасное зрелище! Конечности, когда-то столь округлые и изящные, съеживались, превращаясь в ничто; глаза, те глаза, которые сияли, словно небеса, рассыпались в черную пыль; блестящие золотые волосы стали жидкими и бесцветными. Наступила агония. Я увидел это последнее усилие чернеющей фигуры – и потерял сознание.
Очнувшись от многочасового транса, я обнаружил, что лежу среди осколков своего инструмента, такой же разбитый, душевно и физически, как и он. Я едва дополз до кровати, с которой не вставал многие месяцы.
Они теперь говорят, что я сумасшедший, но они ошибаются. Я беден, потому что во мне нет ни страсти, ни желания работать. Все мои деньги потрачены, и я живу на милостыню. Ассоциация молодых людей любит в шутку приглашать меня прочесть им лекцию по оптике, они платят мне за это и смеются, пока я читаю лекцию.
«Линли, безумный микроскопист» – вот имя, под которым я известен. Полагаю, я говорю бессвязно во время лекций. Кто мог бы говорить складно, когда его мозг обуревают столь ужасные воспоминания, когда то и дело среди призраков смерти я вижу сияющую фигуру моей потерянной Анимулы!
Перевод Марии Таировой

Эдгар Аллан По

В России Эдгара Аллана По (1809–1849) любят, и любят давно. На русском его начали читать уже в 40-е годы XIX века. Им восхищался Ф. М. Достоевский, о нем писали русские критики-демократы, он был одной из «культовых» фигур отечественного Серебряного века. Все известные к настоящему времени произведения великого американского романтика переведены (большинство неоднократно) на русский язык. Поэт и прозаик, незаурядный литературный критик и философ, он оставил небольшое по объему, но весьма разнообразное литературное наследие. Можно спорить о том, что «страшный» рассказ («новелла ужасов») является наиболее значимой частью творческого наследия художника, но то, что это одна из наиболее ярких его составляющих, оспорить невозможно.
Эдгар По начинал как поэт и уже к концу 1820-х гг. состоялся как одно из ярчайших явлений поэзии Америки. Обращение к прозе поначалу носило вынужденный характер, в котором материальные соображения, столь важные для поэта, существовавшего исключительно на литературные доходы, играли не последнюю роль. Молодая национальная словесность активно осваивала малые прозаические жанры. Очерки, рассказы заполняли страницы в изобилии издававшихся тогда литературных журналов и альманахов. Не последнее место среди них занимали так называемые рассказы «немецкой школы» – или, как нередко их еще называли в Америке, «рассказы впечатлений». Их отличительной чертой был «готический» колорит – нагромождение невероятного и ужасного, всевозможные замки, привидения, таинственные и загадочные преступления. Они пользовались огромной популярностью и приносили хороший доход их авторам и издателям. Эдгар По был литератором-профессионалом и, конечно, не мог остаться в стороне от этого явления.
Ранние опыты писателя в сфере «ужасной» прозы несли отчетливый пародийный оттенок, да и задумывались изначально прежде всего как пародии на популярный жанр. В этом нетрудно убедиться, обратившись к самым первым его новеллам «Как написать рассказ для “Блэквуда”» и «Трагическое положение», опубликованным в начале 1830-х гг. Довольно скоро По отказался от пародийно-ироничной интонации. Великий американец первым увидел потенциальные возможности жанра, а затем попытался превратить его в высокое искусство. На базе «страшного» рассказа он сформировал теорию тотального эмоционального воздействия на читателя, научился заранее прогнозировать эмоциональный эффект текста, «конструировать» и скрупулезно выстраивать его. В «Философии творчества» и в «Новеллистике Натаниэля Готорна» он сформулировал основные принципы своей теории, ставшие впоследствии «альфой и омегой» любого, кто берется за сочинение короткой «страшной» (да и не только «страшной») прозы. Трудно не согласиться с авторами всемирно известной «Теории литературы» Р. Уэллеком и О. Уорреном, которые утверждали, что По «видел себя литератором-инженером, способным управлять чужими душами». «Инженерная», рассудочная составляющая – ключ к пониманию и верному восприятию рассказов американского художника. В то же время Э. По был романтиком, отвергавшим прозаическое существование буржуа, лишенное какого бы то ни было намека на чудесное и загадочное. Поэтому его обращение к «страшному» было и своего рода эскейпизмом, бегством от вызывающей отвращение действительности. Он верил в созидающую и облагораживающую силу искусства, считал художника творцом, почти равным богу, к которому неприменимы мирские законы и установления. Вероятно, всем этим он и был близок Г. Лавкрафту, который в своем эссе «Ужас и сверхъестественное в литературе» писал: «Рассказы По обладают почти абсолютным совершенством художественной формы, что делает их подлинными маяками в жанре краткой прозы. По мог придать своей прозе истинно поэтический оттенок, используя тот архаичный и ориенталистский стиль, с фразами, сверкающими драгоценностями слов, почти библейскими повторами и рефренами, которые столь удачно перешли затем к писателям более позднего времени». В том числе и к автору приведенных строк.