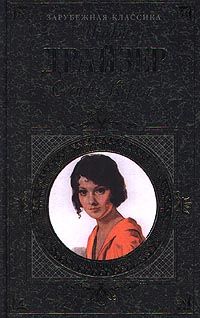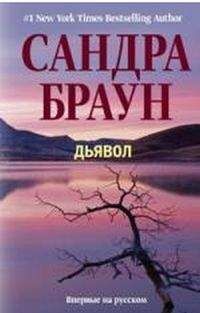Джонатан Келлерман - Голем в Голливуде
Пронзает воспоминание.
Ее тело.
Работа над лицом требует терпения, любви и милосердия. Вылепляя раковину уха, Перел не гнушается согнуться в три погибели и балансировать, опершись на локоть. Открыты ноздри, губы разлепляются, готовясь вдохнуть. Чело слегка нахмурено – след страшных снов, но твердый подбородок говорит о решимости их изгнать.
Она смотрит и вспоминает.
Ребецин покидает чердак, чтобы второй раз омыться. Вернувшись, оживленно потирает руки, обходит свое творение, в последний раз проверяя каждую мелочь, и остается довольна.
– Ты готов? – Перед садится. – Теперь ляг и положи голову мне на колени.
Она подчиняется, стараясь не задеть прекрасное глиняное изваяние.
Над ней склоняется улыбающееся лицо ребецин, перевернутое вверх тормашками:
– Спасибо тебе за все.
Тебе спасибо.
– Я буду скучать по тебе.
Я тоже.
– Ты всегда найдешь здесь приют. – Печальный смешок. – Хотя, конечно, до поры лучше держаться отсюда подальше. – Перед гладит ее по голове. – Это не больно и легко. Все равно что выловить ворсинку из молока.
Легкие прикосновения будто разглаживают бугристую голову, корявые уши. Глаза ее закрываются. Она уж и забыла, что такое сонливость. Чудесно – будто перышком нескончаемо падаешь с огромной высоты. От Перед полыхает жаром, лицо ее так близко, что между ними проскакивают искры, губы ее касаются ее губ, и она раскрывает рот. Она помнит предостережение, знает, что произойдет, но, доверившись, шире раздвигает губы и высовывает язык.
Узел ослабевает.
Потом вовсе распускается, она вздыхает, и сон окутывает ее, точно глиняная мантия.
– Ты явилась.
Оглушена, животу мокро, бухает сердце, звенит в ушах; она лежит навзничь, а перед глазами в младенческой мути двоится и расплывается сияющее лицо Перед.
– Как ты?
– Устала.
Шепот ее производит сногсшибательный эффект: ребецин заливается слезами вперемешку со смехом, потом обе смеются и плачут, дрожат и тискают друг друга в объятьях.
– Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, который даровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени.
– Аминь.
И во второй раз обе ошеломлены. Опять слезы, смех и объятья.
Перел помогает ей сесть.
– Сейчас я тебя выпущу, – говорит она. – Не грохнешься?
– Не грохнусь.
Шершавое платье корябает ей спину. Ой, она же голая. Сразу становится зябко. Пошарив по ящикам, Перел подает ей старый талес:
– Лучше чем ничего.
Она закутывается в шерстяной плат:
– Спасибо.
– Встать сможешь?
– Наверное.
Теперь они примерно одного роста; они равны – поразительно. Вместе они шаркают по чердаку, вялые ноги ее потихоньку набираются ума и силы, и вот уже походка ее изящна и легка. Она себя осматривает с ног до головы.
Голубые жилки на руках оттеняют бледность шелковистой кожи. Она растопыривает пальцы ног на пыльном полу, вздергивает плечи, качает бедрами. Все так привычно и удобно. Она трогает голову. Волосы. Длинные, густые, мягкие. Интересно, какого цвета? Как лен и земля, сообщает свет лампы. А глаза, какого цвета глаза?
Она бросается к ведру, падает на колени.
Перел подхватывает ее под руку:
– Тебе нехорошо?
– Нет, все в порядке.
У отражения глаза неясного цвета. А лицо еще красивее, чем она думала, – черты мягче, тоньше, нежели в глине.
– Ну как, нравится?
Она кивает. Еще бы не нравилось – такая красота. Но главное – это она, такой себя и помнит.
– Я копировала мою Лею, – говорит Перед.
Это необъяснимо. Но она знает, что сказать:
– Лея была красавица.
Молчание.
– Да, еще кое-что, – говорит Перед. – Тот узел на языке…
Она высовывает язык, трогает – гладкий, упругий, никакого пергамента. Ребецин мнется и краснеет, потом кивает.
На ее лоно.
– Надо было куда-то спрятать, – говорит Перед. – Он глубоко, не выпадет. Но ты все же поаккуратней.
– Ладно.
– Не делай такие глаза. Это источник жизни, а ты живой человек.
От благодарности сердце разбухает, в горле першит.
– У тебя есть имя?
Она улыбается. Конечно, есть.
Мое имя…
Какое?
– Меня зовут…
Молчание.
– Ну? – хмурится Перед.
– Мое имя…
Что за бред. Она вновь обрела свое тело. Свой голос. А в голове вертится мужское имя, под которым она жила. Янкель.
Память отхаркивает слова на забытом языке.
Ми ани? Янкель.
Кто я? Янкель.
Буквы меняются местами.
Новое имя. Она берет его, подправляет.
– Меня зовут Мая, – говорит она.
Перед облегченно вздыхает и улыбается:
– Чудесно. Приятно познакомиться, Мая.
Она не успевает ответить – снизу доносится грохот. Краткая тишина, потом слышен треск досок, сокрушаемых топором.
Ломают входную дверь.
Перед захлопывает крышку люка и хватается за шкаф:
– Подсоби.
Еще недавно Мая одним пальцем его бы сдвинула, а сейчас они вдвоем тужатся, загораживая чердачный люк. Через минуту слышны мужские голоса и скрип лестницы, под мощными ударами кулаков сотрясается пол.
– Переле! – Голос ребе полон отчаяния. – Ты там?
Перед хватает Маю за руку, на цыпочках они отходят от люка.
– Переле, отвори, прошу тебя!
Сдвинув засов, Перед распахивает скрипучую чердачную дверь. Внутрь врывается холод.
Внизу плывет брусчатка.
Ребецин стискивает ладони Маи:
– Беги.
Мая мешкает. Она еще не оклемалась, к тому же почти голая, а пальцы Перед – точно хватка десяти тысяч рук.
– Беги. – Перед выпускает ее ладони. – Во весь дух. Не останавливайся.
Мая встает на четвереньки и, высунув ногу наружу, нашаривает первую перекладину. Железо обжигающе стылое. Мая одолевает три перекладины, но потом ватные ноги срываются и она, вскрикнув, повисает на руках, чиркнув новеньким мягким телом о грубые кирпичи. Талес сваливается, выставляя ее напоказ всему свету. Сверху шипит Перед: давай, давай, скорее, и Мая нащупывает перекладину, продолжает спуск и не смотрит вниз, только на кирпичи перед собой, и, кажется, она молодцом, но тут слышит вопль Перед.
Мая поднимает голову.
Ребецин яростно машет руками – назад, назад!
Мая смотрит вниз.
Там стоит Давид Ганц.
Он явно ошарашен. Ну еще бы: подстерегал здоровенного мужика, а тут к нему спускается голая баба. На мгновенье все замерли. Потом, словно очнувшись, Ганц кидается к лестнице.
– Быстрее! – вопит Перел. – Давай!
Надо же, сейчас все отдала бы, чтоб на мгновенье вновь стать Янкелем. Ганц хватает ее за лодыжку, но робко – первый раз в жизни трогает незнакомую женщину, и Мая выдергивает ногу, а Ганц, вспомнив приказ, снова ее хватает, уже крепко, и что есть силы тянет вниз. Пальцы ее вот-вот разожмутся. Рехнулся он, что ли? Она же сорвется. Выходит, он того и хочет. Прикончить ее.