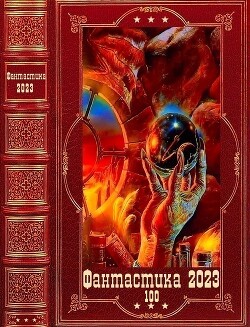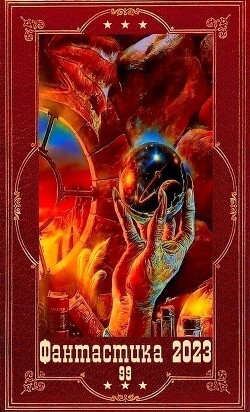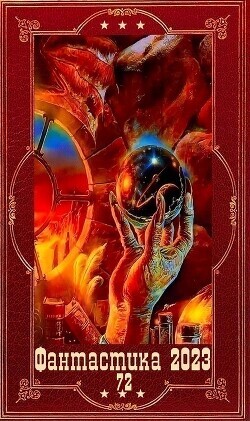Холодные песни - Костюкевич Дмитрий Геннадьевич
– То-то. Ну, добре… – Лицо Семеныча снова смягчилось, отекло, он брякнул по струнам невпопад.
От этого звука у Люма скрутило живот.
– Я ведь чего играть стал… – тихо произнес Семеныч, ткнувшись подбородком в грудь. – Как Люба пять лет назад умерла, так и взялся за гитару. Ей очень песня одна нравилась, Высоцкого, «Белое безмолвие»… – Он ударил по «мертвым струнам», которые не прижал к грифу. – «Как давно снятся нам только белые сны!» Брат ее пел, когда приезжал… – Семеныч зажмурился. – Когда Любы не стало, решил научиться играть эту песню. Она часто ее напевала, уже больная, быстро уходя… И я подпевал, а хотелось под гитару, по-настоящему. Вот и стал заниматься, два года уроки брал…
Люм и Гера обменялись взглядами. Гера, в отличие от Люма, не выглядел растерянным, точно ожидал чего-то подобного. Успел привыкнуть.
– Семеныч, – начал Люм, подбирая неуклюжие слова, – Люба… не умерла.
– Да что ты такое говоришь. Артем!
Сердце Люма перевернулось.
– Семеныч. Это я – Игнат.
– Игнат, выйди, пожалуйста, – попросил Гера, голос его прозвучал высоко. В его руках были шприц и ампула.
Люм встал. Его снова охватило постыдное чувство бегства.
Семеныч вдруг рассмеялся.
– Игнат, заходи еще. Не забывай старика.
Люм с трудом вздохнул. В салоне тяжело пахло болезнью. Влажный, тошнотворно-сладковатый запах.
– Конечно… – выдавил он и сунулся в проход.
– Игнат, – позвал Семеныч, и Люм, обернувшись, увидел страх в его глазах – этот страх сполз по лицу, как лавина. – Они что-то испортили во мне. Мир теперь другой, всегда другой, с каждой стороны и угла. Все другое. Мысли, воспоминания. Все искажено. Все уродливо… – Начальник уронил лицо в ладони и заплакал.
Гера попытался оторвать его руки от лица. Семеныч напрягся.
– Нет! – закричал он внезапно. – Не хочу видеть! Не хочу думать! Уйди! Зачем ты это сделал? Зачем?
– Что сделал? – спросил опешивший Люм.
– Съел ее! Переварил! – Гере удалось опустить руки Семеныча, и тот словно споткнулся взглядом и упал в кошмар. Глаза расширились, рот перекосило. – Она ведь еще не растаяла!

Громадный круглый предмет перекатился через поезд, поджег его, точно выбил искру над лужей соляры, тягачи вспыхнули призрачным зеленым пламенем, и Люм проснулся.
Лицо было сухим и горячим, он чувствовал жжение под кожей, в глазных яблоках, видимо, остатки сна… но нет, слишком реально и осязаемо. Зеленоватый свет бил в лицо через боковое стекло, подсвечивал вездесущую белую пыль. Зеленый плотный луч – он рассеялся и померк, как только Люм отмахнулся от него. Все-таки кошмар? Он потер лицо. Теплое, зудящее. Голова раскалывалась, словно после попойки.
Глянул на часы: еще ночь. Лежал в каком-то предознобном состоянии, и смотрел в черное окно, и представлял, что сидит в музыкальном салоне «Оби», за окном осенняя Балтика, и покинутый удаляющийся берег, и Настя, его Настя, или уже не… Сердце сжалось от нахлынувшей жалости к самому себе.
Долгую разлуку он рвался душой к Насте, его любовь крепла и ширилась. Возвращение домой в первые дни казалось вершиной счастья, но два с половиной месяца на палубе дизель-электрохода изматывали пуще зимовки на станции, и что-то черное проглядывало в душе – разводья в расходящемся льду. А потом встреча с Настей на Большой земле – как первое свидание, первая любовь. Он божился, что останется навсегда, что с зимовками покончено, но спустя месяц вновь чувствовал зов высоких широт. Видел белые сны.
Но сейчас тяготило другое.
Простившись на причале с Настей перед этим походом, он увез с собой не только сладкую тоску и гаснущие ленинградские огни, но и что-то нехорошее, тянущее, грызущее изнутри.
Он познакомился с ней в гостях у общих знакомых. Весь вечер не отходил от молодой журналистки, эффектной, стройной, со вкусом одетой. Чувствовал прикованные к ней мужские взгляды, и ему льстило, что она рядом, заглядывает в его глаза. Чувствовал и ее независимость, это немного пугало, но он решился и пригласил Настю в ресторан – увел из гостей, от других мужчин.
Помнил, как потерялся от счастья, когда Настя сдалась под его ухаживаниями. Как дождалась его после зимовки, приняла со слезами кольцо (его глаза тоже были на мокром месте), согласилась променять свою независимость на домашние хлопоты. Как по-молодому она любила раньше, а потом… отцвело что-то, начало увядать. После сладости пришла горечь. Он понимал это, но соглашаться не хотел.
Старался гнать подальше мысли о том, что она была рада его последней экспедиции, его отъезду. Будто не провожала, а отправляла, чтобы с чем-то разобраться. Он долго не сознавался себе, что подозревает ее в измене. Вот и сейчас, лежа в кабине тягача, поежился – и правда знобит, упрекнул себя: нет никаких доказательств, это ведь его Настя, его лучик света…
За неделю до отплытия они были в гостях, Настя не разлюбила ходить в гости, быть в центре внимания, и это даже нравилось ему до того вечера – ведь она его, только его, пускай любуются, завидуют! Но тогда в огромной квартире среди двух-трех десятков гостей оказался какой-то режиссер. Высокий, с физиономией киноактера (может, сам себя и снимал) – такие легко очаровывают женщин и легко пренебрегают ими; таким не надо бороться. Он, этот смазливый режиссеришка, не отлипал от Насти, и она звонко, недостойно смеялась, а потом, в такси, улыбалась чему-то тайному, смотрела в черное ночное окно машины, не слышала мужа, была далеко. Словно что-то случилось, разделило их…
Не потому ли ее письмо было излишне пропитано любовью, пересолено, переперчено нежными словами, будто Настя уже не знала, что писать, и выплеснула на бумагу все застоявшиеся остатки, воспоминания о прошлых расставаниях…
Не смей думать об этом! Не смей!
Но как не сметь?.. Как увильнуть от ее прощального взгляда, от уставших зеленых глаз, грустных не оттого, что он уезжает, а от недосказанности, вынужденности. Этот взгляд вытекал из другого – отражения в ночном окне. Куда она смотрела, когда писала письмо, которое он забрал с собой на ледовый материк, которое перечитывал каждый день? В какое из своих отражений заглядывала – в новое или старое? Или пялилась в аспидную глубину?
И неправда, что в трудном походе не остается места сомнениям.
«Уже не засну», – понял Люм и стал выбираться из спальника.

Чтобы порадовать, хоть как-то приободрить ребят и начальника, Люм испек пирожки с черносмородиновым вареньем. Всю душу вложил. Но завтрак прошел уныло, никто не шутил, думали о чем-то своем. И ни слова похвалы, будто и не заметили, что съели. Люм отнес пирожки Семенычу, но тот выплюнул первый же кусок: «Черви!» Гера выпроводил Люма из «Харьковчанки».
Открывая дверь, вернее, протягивая к ней руку, Люм испытал головокружение. Дверная ручка изменилась. Удлинилась и отекла, словно серый воск. Люм отшатнулся, и ручка снова стала прежней, но лишь на мгновение, приняв промежуточную форму, затем скукожилась в узловатый нарост, древесный кап, и эта сухая опухоль будто провалилась внутрь двери, вывернулась в черную пустоту. Взгляд Люма затуманился и поплыл вправо, повар не узнал запорный механизм и петли – они обратились в нечто иное и продолжили меняться, когда Люма повело по тамбуру. Он навалился на переборку, крепко зажмурился и шагнул куда-то, потерявшись в пространстве, зашарил руками, наткнулся на дверь, на предательскую ручку, которая на ощупь была обычной, надавил на нее. Снаружи хрустнула корка льда, дверь нехотя распахнулась в морозный воздух, Люм слепо сунулся в проем, боясь коснуться уплотнителя, потому что был уверен, что почувствует что-то совсем другое, запутался в ногах и покатился по трапу.
Снег на лице и во рту, чистый морозный воздух – отрезвили. Люм перевернулся на спину и открыл глаза. Низкое незнакомое небо стального цвета. Приподнялся и глянул на вездеход. В открытой двери маячил силуэт Геры.