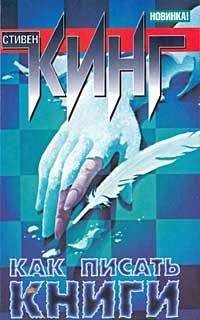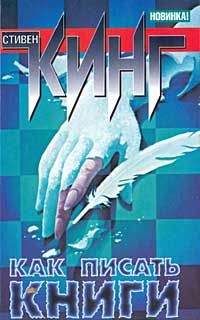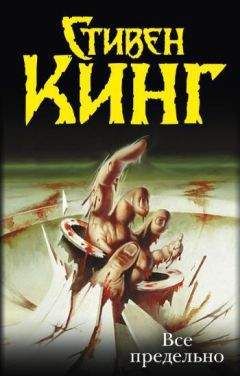Стивен Кинг - Ночная смена (сборник)
– Мама?
Веки дергаются.
– Джонни?
– Я.
– Давно ты здесь?
– Не очень. Я лучше пойду. Тебе надо поспать.
– Х-р-р-р-р.
Он тушит окурок в пепельнице и выскальзывает из палаты, думая: я хочу поговорить с врачом. Черт подери, я хочу поговорить с врачом, который это сделал.
Входя в кабину лифта, он думает, что слово «врач» становится синонимом слову «человек» после того, как набран определенный профессиональный опыт, словно жестокость врачей – это аксиома, и для них характерна эта отличительная черта человека. Но…
«Я не думаю, что она долго протянет», – говорит он брату этим вечером. Брат живет в Эндовере, в семидесяти милях к западу. В больнице он бывает раз или два в неделю.
– Но боли ее больше не мучают? – спрашивает Кев.
– Она говорит, что у нее все чешется. – Таблетки у него в кармане жакета. Жена спит. Он достает их: таблетки украдены из опустевшего дома матери, в котором когда-то он и брат жили вместе с бабушкой и дедушкой. Продолжая разговор, он крутит и крутит коробочку в руке, словно кроличью лапку.
– Что ж, значит, ей лучше.
Для Кева будущее всегда лучше прошлого, словно жизнь движется к всеобщему раю. В этом младший брат расходился со старшим.
– Она парализована.
– Разве в нынешнем состоянии это имеет для нее значение?
– Разумеется, имеет ! – взорвался он, вспомнив о ногах, которые ему пришлось передвигать под простыней.
– Джон, она умирает.
– Она еще не умерла. – Вот что ужасает его больше всего. Разговор дальше пойдет кругами, накручивая прибыль телефонной компании, но главное сказано. Она еще не умерла. Лежит в палате с больничной биркой на запястье, слушая голоса, долетающие из радиоприемников, движущихся взад-вперед по коридору. И…она будет адекватно реагировать на ход времени, говорит врач. Крупный мужчина с русой бородой. Рост у него шесть футов четыре дюйма, широченные плечи. Врач тактично увел его в холл, когда она начала засыпать.
– Видите ли, – продолжает врач, – некоторые нарушения двигательной функции неизбежны при такой операции, как кортотомия. Ваша мать начала шевелить левой рукой. Вполне возможно, что через две – четыре недели она обретет контроль и над правой.
– Будет она ходить?
Врач задумчиво смотрит в потолок. Борода приподнимается над рубашкой. Окладистая борода. По какой-то нелепой причине, глядя на бороду, Джонни вспоминает об Олгерноне Суинбурне. Почему, понять невозможно. Этот человек – полная противоположность Суинбурну.
– Осмелюсь предположить, что нет. Слишком многое разрушено.
– То есть до конца жизни она останется прикованной к постели?
– Думаю, это предположение соответствует действительности.
Он начинает восхищаться этим человеком, которого надеялся возненавидеть. Лучше услышать правду, пусть и горькую.
– И сколько она проживет в таком состоянии?
– Трудно сказать (и это тоже правда). Опухоль блокирует одну из почек. Вторая работает нормально. Когда опухоль доберется и до нее, ваша мать уснет.
– Уремическая кома?
– Да, – отвечает врач, голос звучит подозрительно. «Уремия» – специальный, патологоанатомический термин, обычно знакомый только врачам. Но Джонни знает его, потому что его бабушка умерла от того же, только без рака. У нее отказали почки, и она умерла, с внутренностями, плавающими в моче. Джонни первым понял, что на этот раз она умерла, а не заснула с открытым ртом, как свойственно старикам. Две маленькие слезинки выдавились из уголков ее глаз. Старый беззубый рот напоминал ему вычищенный под фаршировку и забытый на кухонной полке помидор. Он с минуту держал у ее рта маленькое зеркало и, поскольку гладкая поверхность не туманилась и не скрывала рот-помидор, позвал мать. Тогда все казалось нормальным, теперь – нет.
– Она говорит, что по-прежнему чувствует боль. И у нее все чешется.
Доктор солидно качает головой, как Виктор Дегрут в каком-то старом фильме.
– Она воображает боль. Но тем не менее ощущение боли реально. Реально для нее. Вот почему время так важно. Ваша мать больше не сможет отсчитывать секунды, минуты или часы. Она должна суметь перейти с этих единиц измерения на дни, недели и месяцы.
Он понимает, что говорит ему этот бородатый здоровяк, и его это пугает. Тихонько звякает звонок на часах врача. Он больше не может его задерживать. Тому надо куда-то идти. Как легко он говорит о времени, словно время для него – открытая книга. Может, так оно и есть.
– Можете вы еще что-то для нее сделать?
– Очень мало.
Но говорит он откровенно, и это хорошо. Во всяком случае, не «вселяет ложных надежд».
– Кома – это наихудший исход?
– Разумеется, нет. В данной ситуации прогнозы – зряшное дело. В вашем теле словно поселяется акула. И никому не ведомо, к чему это приведет. Она может раздуться.
– Раздуться?
– Нижняя часть живота увеличится в размерах, опустится вниз, снова увеличится. Но к чему рассуждать об этом сейчас? Я полагаю, мы можем сказать…что свою работу они сделали, а если предположить, что нет? Или, допустим, они поймают меня? Я не хочу идти в суд по обвинению в убийстве из сострадания. Даже если меня оправдают. Я не хочу мучиться угрызениями совести. Он думает о газетных заголовках вроде «СЫН УБИВАЕТ МАТЬ» и морщится.
Сидя на автостоянке, он вертит коробочку в руках. ДАВРОН КОМПЛЕКС. Вопрос один: сможет ли он это сделать? Должен ли? Она сказала: Как бы мне хотелось покончить с этим. Я готова на все, лишь бы покончить с этим. Кевин говорит о том, чтобы перевезти ее к нему. Незачем ей умирать в больнице. И больница не хочет оставлять ее. Они дали ей какие-то новые таблетки, но видимых улучшений нет. После операции прошло четыре дня. Они хотят избавиться от нее, потому что еще никто не научился делать эти операции без побочных эффектов. А опухоль вырезать бесполезно. Надо убирать все, за исключением головы и ног.
Он думал о том, как воспринимается ею время, как реагирует она на потерю контроля над ним. Дни в палате 312. Ночь в палате 312. Им пришлось протянуть нитку от кнопки вызова и привязать к указательному пальцу на ее левой руке, потому что теперь она не может протянуть руку и нажать на кнопку, если решит, что ей требуется судно.
Впрочем, особого значения это не имеет, потому что чувствительность в средней части потеряна полностью. Живот вместе со всеми внутренностями превратился в мешок с опилками. Теперь она испражняется в постель и мочится в постель, узнавая об этом только по запаху. Она похудела со ста пятидесяти фунтов до девяноста пяти, и мышцы превратились в веревочки. Будет ли по-другому в доме Кева? Сможет ли он пойти на убийство? Он знает, что это убийство. Самое худшее из убийств, убийство из сострадания, словно он – разумный зародыш из одного раннего рассказа ужасов Рея Брэдбери, жаждущий вызвать аборт у животного, давшего ему жизнь. Может, вина все равно его. Он – единственный ребенок, которого она выносила, ребенок, который мог что-то изменить в ее организме. Его брата усыновили, когда другой улыбающийся врач сказал ей, что своих детей у нее больше не будет. И естественно, рак зародился в ее матке, словно второй ребенок, его черный двойник. У его жизни и ее смерти отправная точка одна. Так почему ему не сделать то, что уже делает двойник, только медленно и неумело?