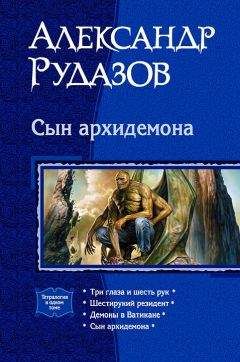Инесса Ципоркина - Меня зовут Дамело. Книга 1
Дамело соглашается использовать официантку. Мелкая карта, такие в роял-флэш не входят,[29] но в игре не стоит пренебрегать ничем — и скромный кикер[30] срывает банк.
— А что, здесь есть хорошенькие?
— Трахаться на полный желудок — не уважать себя, повара и снова себя, — парирует она. Как бы небрежно. Как бы между делом напоминая Дамело о правильной расстановке приоритетов. Она всегда умела поставить его на место — начиная с тех далеких времен, когда портила любопытного мальчишку постепенно, но неумолимо.
Сталкер не любит об этом вспоминать. Предпочитает думать, что с самого начала расклад был иным: не она пыталась взять его себе, а он брал ее, брал — и забрал. Дамело давно понял: если женщина говорит «не брала» — это значит «не отдам!» Однако упрекать ту, которая сидит напротив, просчитывая комбинации карт, индеец не станет. Дамело благодарен своей адской гончей за то, что когда-то она разглядела его, вонзилась, проникла, увлекла. Раскрыла перед ним мир самой восхитительной игры из всех возможных.
Это было время, когда его тянуло на каждую женщину, точно муху на мед — даже если этим медом намазана мухобойка. Именно Сталкер показала ему путь завоевателя, путь терминатора сердец — радея о собственной выгоде и удовольствии.
Терн.[31] Их уже четверо: он, она, безликая, но желанная официантка — и его знание, подаренное не плодом с древа познания, но подругой, поступившей одновременно предательски, корыстно и щедро. Ведь это Сталкер показала ему расположение скрытых трещин в женской броне, доселе казавшейся непробиваемой. И он старательно углублял, расширял, таранил каждую трещину, добиваясь мгновенного, неосознанного эффекта, от которого слабеют колени и глаза уходят под лоб у самых железных леди.
Дамело берет знание.
— Просто так убиваться здешним салатом и ничего с этого не иметь? — усмехается он, предвкушая, почти облизываясь.
— Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан, — с улыбкой, не отраженной глазами, цедит Сталкер.
— Это сексу я обязан. Жизнью, — подмигивает Дамело с восхитительной, притягательной похабностью.
— О Боже, дай мне его, или я возьму его сама, — якобы про себя и якобы иронизируя бормочет Сталкер.
Однако лицо ее все никак не может присоединиться к шуткам, выпадающим изо рта: губы и щека мертвеют, словно после инсульта, стекают вбок, превращая речь в бубнеж. Шуточка становится мольбой, мольба — молитвой. Сталкер молит своих богов о том, кого защищают иные боги.
Ривер,[32] последний круг, на сегодня — точно последний. К тому, что есть, прибавился джокер — неистребимая, неизлечимая любовь-зависимость. Любовь, укрытая налетом заботы и корысти, будто ядовитый сорняк, проросла в душе и вытеснила из нее все прочие заботы и корысти, кроме одной: боже, дай мне его — или я возьму его сама!
Именно этой карты Дамело и не берет. Ему не нужен джокер.
Индеец чувствует: он устал так, словно обогнул мир за восемьдесят дней и встал на второй круг.
— Не боишься, что тебя однажды прищучат? — Зато Сталкер неугомонна, любовь-зависимость заставляет ее мчаться по кругу без остановки. Однажды она умрет на бегу, но до тех пор…
— Кто? — поднимает бровь Дамело.
— Враги! — снова как бы посмеивается его противница, вечный второй игрок.
— Врагов у меня нет, — невинно хлопает ресницами Дамело — но, может, это говорит не Дамело, а Амару, его дракон. И скромно добавляет: — Живых.
Сталкер молчит. И только в глазах ее — вопрос: а я? А я?
Глава 3
Персики и орехи
Он помнит ее другой. Милой, вызывающей нежность с примесью хищности. Как хотелось схватить ее в объятья, сминая, точно шелковое покрывало, прижать к себе, зарыться лицом в длинные, рассыпанные по плечам волосы, вдохнуть сладкий-сладкий запах, будто в персиковом саду — от падалицы, лежащей на солнцепеке и пахнущей приторно и пьяно.
Тогда Дамело не знал, да что там, представить себе не мог стальную начинку этих шелковых ножен. А мог бы догадаться, когда Сталкер научила его не быть осторожным и ласковым, оставаясь желанным и притягательным для женского пола, даже желанней прежнего. Когда разбудила в нем чуткую, но жестокую тварь, способную вобрать узкой расщелиной зрачка больше, чем видит глаз человеческий. Именно Сталкер, гордясь недавно приобретенным опытом, щедро делилась с ним знаниями: «Мы, женщины, чувствуем так». Женщины…
Девочка, чья грудь не нуждается в лифчике, девочка с кукольно раскрашенным лицом, девочка, дуреющая от цветов и шампанского, купленных настойчивыми мужчинами, чей взгляд жаднее рта. Почти женщина, но еще девочка — а он ее мальчик, которому она рассказывает все, все.
Он слышит бесконечное шушуканье соседей, в которых слова «расцвела» и «блядь» смешаны в равной пропорции, языки кумушек, словно шейкер зависти, взбалтывают, вспенивают горькое понимание: она больше не моя, но ведь и я больше не ее. Скоро мы расстанемся, потому что я расту, а она расцветает. Она ждет того, кто сорвет ее и раздавит, сжав в кулаке, чтобы сок бежал по пальцам, по ладони, липкой сладостью омывал запястье. А я жду возможности удрать, чтобы этого не видеть. Чтобы не испытать того же на собственной шкуре, плоти и душе.
Потому что в сильной руке, жмущей из тебя все соки, Сталкер себя сохранит, а Дамело себя потеряет. Уж слишком они разные — персик и орех. Ее плоть, нежная, тающая под руками и губами, скрывает сердцевину твердую, точно камень. И никакие молотки, дробилки и щелкунчики не извлекут из нее мягкое, с привкусом миндаля, ядрышко. Довольствуйся тем, что на поверхности, все, что можно получить от этой девочки, она предложит сама. Зато молодой кечуа и сам не знает, что прячет под скорлупой, крепнущей с каждым днем: терпкую мякоть сладкого миндаля или пронзительную несъедобность горького. Он не знает даже, хороший он орех или гнилой, крепкий или броня его — лишь видимость брони?
Ожидая, когда мироздание все выяснит, когда подаст им знак, каковы они на самом деле, Дамело и Сталкер бродят по линиям Васильевского острова, прошитым иглой балтийских ветров, перелезают через хлипкое ограждение на скатах крыш, чтобы заглянуть в бессветные провалы дворов, пересекают кулисы подворотен — первый план, второй план, третий план, разделенные светом и тенью. И нигде — ни капли тепла, чтобы развеять знобкую питерскую муть.
Индеец прячет в капюшоне худи[33] лицо до самого кончика носа, отворачивается от подруги, натягивает стойку воротника повыше, чтобы не слышать слов, не чуять запахов.