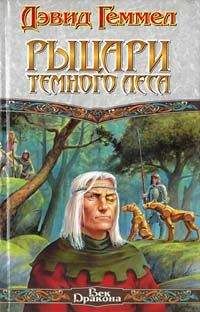Дэвид Сосновски - Обращенные
Есть варианты не столь элегантные. Более агрессивные. Когда вы не говорите «извините» и «пожалуйста», когда вы не ждете своей очереди. Варианты, когда вы играете в перетягивание каната, используя кровь и артерии. Вы сосете, они сосут, и вы можете чувствовать, как стараются другие. Достаточно паузы, чтобы сделать глоток, — и ток крови в вашей соломинке меняет направление. Вам приходится приложить усилие, чтобы заставить его снова устремиться к вам. В конечном счете, один из вас берет свою порцию и отправляется домой. Да, именно так: один из вас отрывает кусок, который высасывал, от остального тела. Это может оказаться довольно расточительным: кровь будет выливаться с обоих концов, как это бывает с хот-догами, в которые положили слишком много кетчупа, или рожком мороженого, у которого откусили низ.
В подобной ситуации будет очень здорово, если кому-то из вас хватает предусмотрительности, и под рукой оказывается кусок непромокаемого брезента. Прежде, чем стать Доброжелательным Вампиром, я охотился в стаях и выступал в роли парня-подстели-соломку. Конечно, не соломку, а брезент. Кто-то выслеживал жертву; кто-то вставлял трубочки в ее запястья и заклеивал ей рот. А я… я ставил стол, разворачивал свой брезент одним отработанным движением, расстилал его, разглаживал углы.
Теперь это может показаться придурью — быть парнем-подстели-соломку, — но эта часть процедуры всегда вызывает самую сильную реакцию. Хорошо, вы примотали клейкой лентой трубочки к запястью жертвы и заклеили ей рот; жертва понимает, что проблемы начались. Но когда вы начинаете подпихивать под нее брезент — вот тогда в ее сознании как будто что-то щелкает. Непромокаемый брезент означает, что жертве предстоит лежать в собственных нечистотах… что, собственно, и происходит. И вот тогда-то ее глаза начинают вылезать из орбит, и она начинает истошно вопить; ее грудь начинает вздыматься, ноздри раздуваются. И если холодно, из ноздрей начинает с пыхтением выходить пар, тяжело и натужно. Маленький Паровозик, Отбывающий со станции. Думаю, что я мертв. Думаю, что я мертв. Я знаю, что мертв. Я знаю, что мертв. Чавк-чавк.
Вы когда-нибудь пробовали ходить в женских туфлях? Пусть даже в очень мягких, вроде теннисных? Допустим, у вас большой размер ноги… да, как у меня, благодарю. Можете считать себя счастливчиком, если вам удалось сжать пальцы ног и подогнуть их внутрь. А теперь вперед! Только постарайтесь идти так, чтобы оставить ряд четких следов, ведущий прочь от норы, замаскированной куском искусственного дерна, через грязь, до асфальтированной дорожки, которая — честное слово — может вести куда угодно. Просто попробуйте. Но сначала спрячьте окровавленное платье. А также части тела его владелицы. Нацарапайте «Мама» на листе чистой бумаги, который вы сложите пополам и оставите на видном месте. Листок, на котором, по вашим словам, написан номер телефона некоего места, куда вы должны вернуться — в том случае, если все снова будет спокойно, и мама вашей сироты придет в этом убедиться.
Все верно. Я решил соврать. Вернее, если говорить откровенно, лгать и дальше. Когда у вас в багажнике заперта кроха, которая свято верит, что вы спасете ее не ради того, чтобы позже… Ложь — самый легкий способ этого добиться. Надо врать много. Врать нагло. Это будет ложь, похожая на дешевый парик на огромной лысине здоровенного прожженного вруна.
«Shave and a haircut», — выстукиваю я.
«Тук-тук», — отвечает Исузу.
— Она ушла.
Это первое, что срывается у меня с языка. Исузу смотрит на меня. Ее двухцветные глаза моргают. Она оценивает то, что я только что сказал. Ее волосы все еще перепачканы артериальной кровью, которая уже подсыхает. Она пряталась в норе, вырытой в сухой земле, и питалась кошачьим кормом — из-за таких, как я. Она полчаса сидела в багажнике — на всякий случай: вдруг такие, как я, все еще бродят вокруг, дожидаясь возвращения блудной дочери. И вот теперь я пристаю к ней со своей неуклюжей попыткой подхватить весь груз ее переживаний, точно дамскую сумочку. Что еще она может сказать в ответ?
— Врешь.
Если вампир может стать бледнее, чем есть, то я бледнею.
— Нет, это правда, — не уступаю я.
Если уж вы шагнули на эту дорожку — как ее ни назови, — вам уже с нее не сойти.
Я стою у нее за спиной, разглядывая свидетельства чудесного спасения ее мамы, и даже если бы мои внутренности столь же чудесным образом изменились, и вы могли бы видеть, как я дышу, вы бы все равно ничего не увидели. Я даже не выдыхаю. Пока Исузу не произнесет хотя бы слово. Или, по крайней мере, не взглянет украдкой. Не издаст хоть какой-нибудь звук. Пусть хотя бы снова скажет «врешь».
Но она ничего не говорит. Вместо этого она опускается на свои крошечные детские коленки, протягивает свои детские пальчики и ощупывает следы, которые я оставил. Не глядя на меня, она сообщает:
— Я умею читать.
И добавляет:
— Мама меня научила.
— Славно, — говорю я, задаваясь вопросом, с чего я взял, что именно эта конкретная ложь — самая удачная.
Несомненно, это поможет свести к минимуму всевозможные сантименты, даст ей что-то, на что можно надеяться, что ее отвлечет. И обеспечит возвращение в мою квартиру, где есть телефон. Но когда этот телефон в конце концов не зазвонит, — и когда, в конце концов, начнутся другие звонки, и когда…
Господи Иисусе…
Кто бы знал, что все так далеко зайдет! Само собой, я собирался отложить удовольствие на потом, но не собираюсь ждать, пока она окончит колледж.
Тем временем…
— «К», — сообщает мое отложенное-на-потом удовольствие. Потом: — «Е». «D». «S». Получается «Keds»![16] — провозглашает она, ее палец подчеркивает слово, отпечатанное на грязной земле.
— Правильно, — говорю я. — Так и есть.
И она продолжает читать слово «Keds» на каждом обследованном отпечатке, цепочка которых ведет до самого островка травы, который мог бы куда-нибудь вести… но ведет только в одну сторону.
Глава 3. Вишневые косточки
Я вспоминаю своего папу.
Я не вспоминал своего папу… бог знает сколько лет. И не думал о нем как об отце. Я даже не знаю, думал ли о нем, как об отце, хоть когда-нибудь. Он был просто одним из членов семьи, который за все платил, которого дразнили за шутки, которые он откалывал в юности, который дымил, как холодная печка — он курил слишком много. Он удивлял меня всю свою жизнь — как можно удивлять ребенка такой большой вещью, как жизнь — то, что я считал само собой разумеющимся до тех пор, пока его не стало.
Это Исузу и ее мама заставили меня думать таким образом. Думать по-родительски. По-отечески, подобно простому смертному.