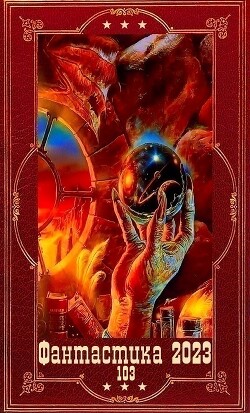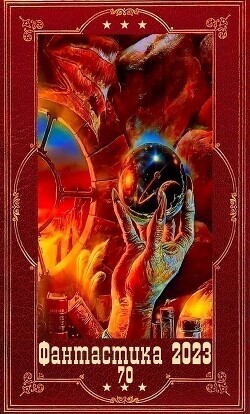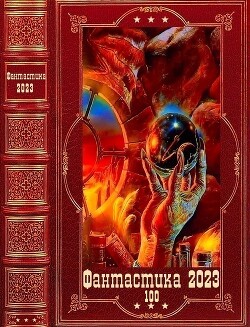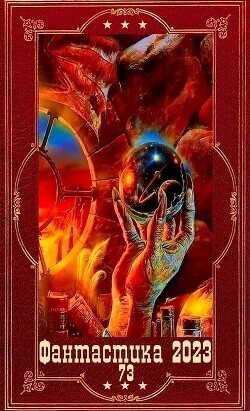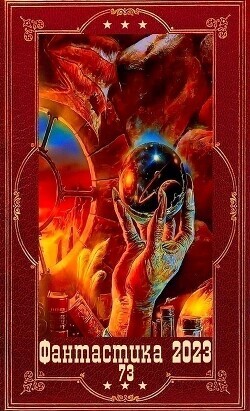Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие - Ходж Брайан
— Господи Иисусе, — сказал через полчаса Итан. — А корейцы не церемонятся.
— Это точно, — отозвался я. — Не церемонятся.
— Я и забыл, что такое кино бывает. — Он с ошарашенным видом вдохнул еще чуток тумана. — Мы-то теперь смотрим сплошных королей-львов, русалочек и прочее дерьмо. В какой-то момент ты просто тупеешь. Потому что варианта два: либо отупеть, либо осознать, что ты можешь прослушать одну и ту же дурацкую развеселую песенку лишь строго определенное количество раз, прежде чем поймешь, что она велит тебе повеситься. А выяснять, чему равно это количество, как-то не хочется.
— Расслабься, — сказал я. — Брук здесь. Я рядом. Я пришел, чтобы помочь.
Он еще какое-то время последил за происходящим на экране.
— Я буду скучать по тебе, когда ты уедешь, братишка.
Но во всем этом ничего странного не было. Такие сцены, без сомнения, разворачивались по всей планете, в миллионах домов, и все думали, что, за исключением пары мелочей, с миром все в порядке… но уже тогда это было не так.
Мы как раз досмотрели фильм и думали, не поставить ли другой, когда Мередит заглянула в гостиную и посмотрела на нас кислым, но не слишком страшным взглядом, как будто для распутников мы были еще ничего.
— Ты должен на это взглянуть. — Было ясно, что она обращается к Итану и что дело касается Мики. — Сейчас же.
Я увязался следом, и мы оба переняли торопливо-крадущуюся походку моей сестры, поднимаясь по лестнице; в конце концов мы втроем сгрудились у двери в комнату Мики. Итан смотрел внутрь поверх правого плеча Мередит, я — поверх левого.
— Я только что заглянула к нему, и он вот так стоял, — прошептала она. — Как думаете, это повод обеспокоиться?
В комнате Мики царил полумрак, несмотря на ночную подсветку вдоль одного из плинтусов и клин света, падавший от коридорной лампы за нашими спинами. Кровать была пуста, скомканное одеяло свисало на пол, словно хотело присоединиться к разбросанным игрушкам.
Мика стоял, склонив голову, в дальнем конце комнаты, спиной к нам, лицом в угол. Таких неподвижных детей я раньше видел только спящими в постели.
— Что с ним? — прошептала Мередит.
Итан проскользнул мимо нее и, полавировав между игрушками, коснулся костлявого плечика Мики.
— Эй. Приятель. Ты разве не должен лежать в кроватке?
Тот не ответил, и моя сестренка тоже подошла к нему.
— Мика? Почему ты стоишь в углу?
Я подумал было, что он не ответит и на этот вопрос, что он встал с кровати, не просыпаясь, и не слышит их. Но потом Мика повернулся и посмотрел на нас; может, он и не спал, но движения его были заторможенными, словно во сне, а голос — монотонным и невыразительным.
— Я плохой мальчик, — сказал он.
Мередит с Итаном заверили его, что нет, нет, он хороший мальчик, и это была правда — за все то время, что я провел в их доме, серьезно он не шалил. Однако Мика покачал головой — медленно и пугающе серьезно, словно это был решенный вопрос.
— Мне велели ждать здесь, — сказал он.
— Кто велел? — спросила Мередит.
Снова молчание. На этот вопрос он отвечать не собирался.
— Чего ждать? — спросил Итан.
— Наказания.
Они отвели его в кровать — Мика не сопротивлялся, хотя казалось, что он позволяет им это сделать, а не идет туда добровольно, — и укутали таким количеством одеял, в котором он явно не нуждался поздним летом. Он немедленно уснул — если вообще просыпался, — и Мередит с Итаном оставили дверь в его комнату открытой.
Лицо у Мередит было совершенно ошарашенное.
— Он такого раньше никогда не делал.
— И может никогда больше не сделать. — Я просто хотел ее поддержать.
— Он каждый день отмачивает что-нибудь новенькое, — сказал Итан, и я не смог понять, жалоба это или такой способ отмахнуться от произошедшего как от незначительного пустяка.
Мы помаялись бездельем, забросив идею посмотреть еще одно кино, но, хоть мы и говорили о том, что неплохо бы тоже отправляться баиньки, к тому времени, как я убрел в гостевую комнату, Мередит все еще не легла, постоянно находя для себя все новые и новые занятия. После каждого из них она заглядывала к Мике, чтобы убедиться, что он все еще спит без задних ног.
Но это не было пустяком. Когда такое случается, вполне естественно предположить, что это единичный эпизод, не выходящий за стены твоего дома. Но то же самое происходило повсюду.
Нас всех терзает чувство вины, потому что мы этого не понимали… но, с другой стороны, что бы мы могли с этим сделать, даже если бы знали?
На следующее утро Мика ни о чем не помнил и ничем не отличался от себя обычного — то есть полыхал энергией тысячи визжащих солнц и готов был выплеснуть ее на ближайшую лужайку или детскую площадку, до которой мог добраться. А в какой-то момент его ожидал еще и урок плавания.
— Я бы не стал об этом беспокоиться, — успокаивал я Мередит, пока мы, сидя в парке, разбитом в миле от их дома, смотрели, как он лазает по турникам вместе с двумя десятками других оглушительно вопящих дворовых обезьянок. — Со мной в детстве тоже пара таких случаев была. Я сам их не помню, помню только, как мама из-за них смеялась.
— А ты что делал? — спросила она.
— Как-то ночью она увидела, что я сплю на полу, лежа на спине, прижавшись задницей к кровати и заворотив на матрас согнутые ноги. Она спросила, что это я такое делаю, и, если ей верить, я ответил: «Ой, мам, это мода такая, ты не поймешь».
Мередит пожала плечами — она тоже этого не помнила.
— И когда это было?
— Несколько лет назад, когда я приехал на выходные из колледжа, — ответил я, и Мередит, закатив глаза, легонько пнула меня в лодыжку. — На самом деле когда-то в начальной школе, не помню точно.
— Ты, дуралей, вел себя точно так же, как и всегда, это не то же самое, — сказала она. — А вот то, что случилось прошлой ночью… это меня беспокоит.
Я не удивился, что она испугалась, хоть и думал, что она придает этому больше значения, чем стоило бы. Дети просто иногда отмачивают жутенькие фокусы.
И тем не менее я понимал ее беспокойство. Меня в свое время отправляли в угол и дома, и в школе. А еще пару раз заставляли стоять, прижавшись носом к маленькому кружочку, нарисованному мелом на классной доске. Я едва мог до него дотянуться, и мне приходилось подниматься на цыпочки. Это тоже неприятный, стыдный опыт, но угол хуже. В нем одиночество ощущается сильнее из-за того, как стены смыкаются прямо перед тобой. К тому же меловой кружочек был наказанием сам по себе, а угол — только прелюдией, камерой, в которой я вынужден был ждать более серьезной и неизбежной кары.
Угол был резервуаром, постепенно заполнявшимся страхом.
— Откуда он вообще об этом узнал? — проговорила Мередит.
— А ты никогда с ним этого не делала? — спросил я. — Не ставила в угол?
Она покачала головой.
— Когда я его наказываю, то обычно просто велю не слезать со стула.
— А как насчет детского сада в прошлом году? Там не ставят детей в угол?
— Кажется, нет. Это наказание не входит в их список одобряемых воспитательных мер. Но я спрошу.
Я не мог ничего с этим поделать: в список, немедля возникший у меня перед глазами, входили одновременно лишение привилегий пользования игровой площадкой и тиски для пальцев. Но я не мог с ней о таком шутить. Мередит не засмеялась бы; она бы только сердито на меня посмотрела. «Это не смешно, Брук». Что, ничуточки? «Нет». А когда-то это ее повеселило бы, и я скучал по той версии своей сестры. Нынешняя была не такой завитой, не такой блондинистой и в целом более растрепанной, но и куда более взвинченной.
С другой стороны, прежняя модель клялась, что никогда не будет заводить детей, потому что:
а) у нее есть ради чего жить и без какого-то там отпрыска-паразита и б) наш мир для этого слишком уж говенный — уровень Мирового океана растет, и температура тоже, и все мы тоскливо копошимся на стремящемся вниз склоне гауссианы, оставив наших родителей на ее вершине.