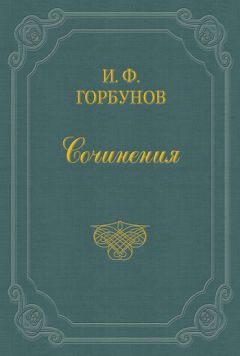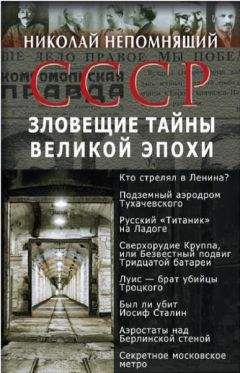Дмитрий Ахметшин - Ева и головы
— Его светлость барон фон Кониг — объявила Ева. — Наш друг.
Эдгар, задремавший, казалось, с открытыми глазами (он пялился в одну точку, куда-то в район переносицы священника) встрепенулся.
— О! — воскликнул Пабле, щурясь на свёрток в руках Евы, который она держала, как ребёнка. Глаза подводили старика, и сумрак играл с ним злую шутку, подсовывая вместо одних предметов другие. — Я не слышал о нём ничего с момента, как он отправился догонять короля. Генрих ушёл с войском отвоёвывать гроб Господень. Ну да ты, господин цирюльник, наверняка помнишь те времена. Жив ли достославный барон по сию пору?
Ева задумалась. Ей показалось, что брат Пабле прекрасно разглядел, что находится под покрывалом, и даже, может, что-то слышал о состоянии, когда твоя голова отделена от тела, но при этом продолжает жить.
— Конечно жив! — сказала она и приподняла краешек пледа, так, чтобы священник увидел нос барона и его напряжённое горло. — Он такой уже почти семь лет, во рту его несколько раз могли вывестись птенцы.
Но Пабле не выразил никаких особенных эмоций. Лицо его затуманилась воспоминаниями.
— Как тяжело он болен?
Ева рассмеялась, думая, до чего же странный человек этот отшельник. Наверняка у него бывает не так много прихожан и после повечерии, когда братец Пабле закрывает алтарь и идёт прочь между рядами тесных скамеек по пустому приходу. В церковь ему навстречу входят пришельцы с края мира, таинственные гости разных форм и размеров, имеющие на устах диковинные свои речи. И тогда Пабле присаживается на ближайшую к выходу скамейку, чтобы вести долгие беседы, иногда завершающиеся под утро.
— Настолько, что не может владеть ни руками, ни ногами. Он только кричит, и… и молчит. Может, вы имеете что-то рассказать о его светлости бароне? — Ева хитро прищурилась. — Мой глупыш-великан на самом деле летописец и опытный путешественник. Мы странствуем по земле, чтобы собрать все истории о его светлости и записать в книгу.
Эдгар громко икнул, не то подтверждая, не то опровергая слова девочки. Священник всё меньше напоминал набегавшегося, наигравшегося до помрачения рассудка щенка. Он вытащил из-за пояса кулёк с какой-то сушёной травкой, закинул комок в рот и принялся сосредоточенно жевать. Эдгар, которого травки интересовали подчас больше, чем перипетия чьей-то судьбы, скосил глаза, хоть и оставался похожим на оплавленную свечку; ноздри его задвигались.
— Это получится очень… тяжёлая книга, — сказал священник. Когда он открыл рот, стало слышно, как вязко дёсны стукаются друг об друга. — Если хотите, я поведаю вам всё, что знаю.
Не дожидаясь ответа, он начал:
— Случилось мне однажды, лет семь тому назад, гостить в одном бенедиктинском аббатстве близ Модены… как же он назывался… вот, бедовая голова!
— Это не важно, — подал голос Эдгар, кажется, впервые с того момента, как они вошли под сени сделанной из песка церкви. Звук его голоса оказался неожиданным для всех: ни Ева, ни, как ни странно, Пабле, не обратили внимания, что Эдгар за всё время раскрыл рот, только чтобы сопроводить туда еду с тарелки и пиво. Кажется, священнику, для того, чтобы вести беседу, было довольно мимики, а то и вовсе иметь перед собой лицо собеседника, что бы оно не выражало. — Я и так всё… это… напишу.
— Точно? — поинтересовался священник. Простоватый говор великана явно навёл его на какие-то мысли. — Так вот, не сказать, чтобы для барона это была судьбоносная встреча, но для меня она стала встречей, которую я буду помнить и на смертном одре.
Братец Пабле с кряхтением привстал и подбросил ещё дров в огонь. Ещё раз попытался рассмотреть свёрток на коленях девочки, несколько раз кивнул с удовлетворённым видом, после чего продолжил:
— Он — язык Господа, что не просто язык, а карающий меч. Он — пята Господа, что топчет грешников. Апостол Павел наших дней. Он говорил… сейчас я воспроизведу точные его слова, за то могу поручиться, на громкие речи у меня отличная память… он говорил — «святые угодники, я слаб умом, но руки мои сильны. Укажите на того, кто нарушил Божьи заповеди, и если его вина тяжка, то он познает всю земную боль. Но если, — здесь старый священник сделал страшное лицо, подражая возникшему в его голове образу, — если никого из вас не будет рядом, я оставлю за собой право решать, кто есть грешник и кто какой заслуживает кары».
Пабле перевёл дух, наблюдая, какой эффект произвела на Эдгара и Еву его речь, и, заметив как нервно подёргивается у великана щека (на самом деле тому причиной была близость бароньей головы), решил его закрепить. Он подполз, загребая солому, вперёд, привстал на цыпочки, чтоб хотя бы приблизительно достичь своими устами ушей цирюльника. Сказал:
— От его взгляда у тамошних монахов и служек — да что там, у меня тоже — буквально переворачивалось всё внутри. С войском в шесть сотен человек он прибыл в обитель одним прекрасным утром, до заката его люди разбивали шатры, а на следующее утро монахи ходили по коридорам, как пришибленные, боясь каждой тени.
Пабло уставился в глаза великану, а потом состроил страшную рожицу для Евы (она радостно взвизгнула), после чего продолжил низким голосом, от которого, по замыслу, должна стыть в жилах кровь.
— Этот взгляд из тех, что пронизывают насквозь. Взгляд, что может искать ересь даже в стенах, воздвигнутых во славу Господню. Конечно, никто не пострадал от меча, никого не сожгли, но когда барон уезжал, каждый из нас чувствовал, что в чём-то провинился. Перебирал в уме, как чётки, собственные маленькие прегрешения. Вот он какой, барон Кониг. Запиши всё это слово-в-слово, господин цирюльник, и обязательно упомяни о нашей славной обители… кстати, почему вы, коль являетесь его слугами, путешествуете без знамён? Или, может, имеется какой-то документ от барона?
Священник задал вопрос из чистого любопытства или же для порядка — Ева достаточно хорошо понимала людей, чтобы откуда-то знать это наверняка. Никакие, или почти никакие подозрения не ютились в этой растрёпанной голове. Ледяная корка на лице Эдгара тоже начала трескаться. Великан бережно вынул из кармана куль с бароновым гербовым кольцом, откинул край тряпицы. Пока братец Пабле осматривал драгоценность («вот, что ты имела ввиду, когда говорила, что господин барон едет с вами» — пробормотал он), Эдгар спросил:
— Куда же он поехал дальше, после того как покинул то аббатство?
Монах махнул рукой.
— Дальше, на восток. Где он мог остановиться? Как-то я был с визитом у аббата Световидческой церкви, что в Бриксене — да, представьте себе, до того, как обрести вкус к уединённому образу жизни, я достаточно много поездил по Господнему свету — и как только в нашем разговоре (как-то совершенно случайно, ей-богу) появилась его светлость, сей аббат преобразился — вытянулся по струнке и застыл с таким, знаете, собачьим выражением. Как, впрочем, и я. Так два брата по несчастью друг друга узнали. Говорю тебе, есть в нём что-то мистическое… но, — поспешил убедить Эдгара Пабле, — конечно, мистическое от Господа. Он как небесная гниль, ржавчина, уничтожающая мечи, сеющие хаос и раздор.