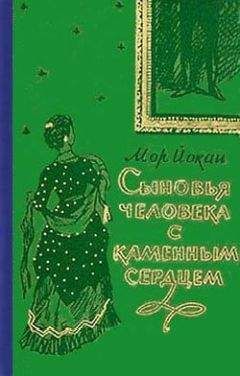Лео Перуц - Ночи под каменным мостом. Снег святого Петра
– Так значит, вы думаете, что в случае возвращения Гогенцоллернов… Гогенцоллерны – германская владетельная династия, известная с XI в.; получила свое название от швабского замка Цоллерн, позднее Гогенцоллерн, первое упоминание о котором также относится к XI в.; в 1227 году образовались две линии, швабская и франконская, из которых более известна вторая – династия бранденбургских курфюстов (1415–1701), прусских королей (1701–1918) и германских императоров (1871–1918); среди представителей франконской линии наиболее знамениты так называемый «великий курфюст» Фридрих Вильгельм (1620–1688), Фридрих II (1712–1786), Вильгельм I (1797–1888) и Вильгельм II (1859–1941)]
– Гогенцоллернов? – перебил он меня. – Куда это забрели ваши мысли, доктор? Эти жалкие маркграфы бранденбургские и ничтожные прусские короли были чужестранцами в собственной стране. Царствование Гогенцоллернов – прожитый и безвозвратный эпизод в истории Германии. Гогенцоллерны? Если хотите знать, мое отношение к последнему носителю императорской короны носит характер исключительно личной привязанности.
Он остановился и прислушался к хриплому крику сойки, доносившемуся из глубины леса. Затем он продолжал – тихо, как если бы говорил с самим собой, а не со мной.
– Древнее государство, преисполненное мечтаний и песен… Неужели вы забыли, что только под властью Гогенштауфенов[49] оно было сердцем мира? Гогенштауфены не были королями по милости вассалов.
– Не были, – согласился я. – Но ни одного Гогенштауфена уже давно нет в живых. Этот единственный воистину царский род за всю историю Европы со времен императора Августа, к сожалению, пресекся.
– Род Гогенштауфенов не пресекся, – сказал барон после минутного молчания. – Гогенштауфены живы и в один прекрасный день в соответствии со своим предназначением протянут руку к короне и горностаевой мантии, даже если эти священные эмблемы и окажутся к тому времени проданными в Америку.
Я взглянул на барона и увидел на его лице уже знакомое мне выражение затаенной страсти и фанатизма. В данный момент спорить с ним было бы бесполезно и даже опасно. И я все же сказал:
– Теперь настала моя очередь задать вам вопрос, который вы задали мне. Итак, куца забрели ваши мысли? Возможно, в Англии и существует еще какой-нибудь представитель дома Тюдоров. Но род Гогенштауфенов прекратился уже больше шестисот лет назад – он утонул в море крови и слез. «Да возликуют небеса, – провозгласил тогда папа римский, – да восторжествует земля, что истреблено имя, тело, семя и отпрыски короля Вавилонского». Королем Вавилонским он называл Фридриха II, сына Генриха и Констанции, последнего Гогенштауфена, носившего императорскую корону.
– Именно Фридриха II! – подхватил барон. – Которого еще называли Дивом Мира и Чудесным Преобразователем. Ради него Констанция покинула свой излюбленный монастырь. Вещий сон предсказал ей, что она родит «пламенный подир, светоч мира, зеркало без трещин»[50]. Все князья склонились перед ним. Когда он умер, то, по словам старого летописца, зашло солнце вселенной. У него было пятеро сыновей.
– Да. Пятеро сыновей. Генрих, рожденный ему Изабеллой Английской, умер пятнадцати лет от роду. Другой Генрих, сын принцессы Арагонской, покончил жизнь самоубийством.
– Генрих, предавший империю, – перебил меня барон. – Юноша с темными кудрями, который по утрам пел в своей темнице, а по вечерам плакал. Он бросился с замковой стены в море.
– Третий сын, – продолжал я, – римский король Конрад, умер в двадцатишестилетнем возрасте от чумы. Барон покачал головой.
– От яда, а не от чумы. В предсмертный час перед ним раскрылась завеса будущего. «Империя увянет, – сказал он, – и будет поглощена тенью забвения». Какое верное пророчество!
Мы шли по сжатому полю. Оледеневшее жнивье звенело у нас под ногами, как битое стекло. Какая-то большая птица вспорхнула прямо перед нами и, широко взмахивая крыльями, скрылась над опушенным снегом лесом.
– Четвертым сыном Фридриха II, – прервал я молчание, – был Манфред[51], павший в битве под Беневентом.
– Манфред, забывавший за песнями о своем королевстве, – сказал барон. – Все Гогенштауфены любили петь. Лишь спустя несколько дней отыскали его труп среди множества мертвых тел, которыми было усеяно поле битвы. Его узнали по белокурым волосам и белоснежной коже. «Diondo e bello e di gentile aspetti»[52], как описал его Данте. В своем «Чистилище» он изображает его, с улыбкой указывающим на свои раны и жалующимся на мстительность папы, не позволившего похоронить его под Беневентским мостом. После Манфреда остались два сына. Они умерли в темнице Карла Анжуйского[53], который продержал их тридцать лет в оковах…
– А Энцио, – закончил я, – любимый сын Фридриха II, умер в плену у болонцев. Император предлагал им в качестве выкупа окружить весь город серебряной стеной, он напомнил им об изменчивости счастья, часто возносящего людей на высоту только для того, чтобы затем низвергнуть их в пропасть. Но болонцы не выпустили царского сына на свободу. «Мы держим его и будем держать», – ответили они. Бывает, что и маленькой собачонке удается затравить вепря. Всего на два года Энцио пережил своего племянника, юного Конрадина, казненного на торговой площади Неаполя. Это был последний из Гогенштауфенов.
– Нет, – сказал барон. – Энцио не был последним отпрыском этого сиятельного рода. Прекрасный и исполненный обаяния, он даже в темнице обрел возлюбленную. Юная дочь графа Николо Руфо, приверженца гибеллинов[54], тайно делила с ним ложе. Во время карнавала, в ночь, когда сторожа преспокойно веселились на улице, они обвенчались. Тремя днями позже Энцио скончался, а его жена бежала из Болоньи. В Бергамо она родила сына.
Я и не заметил, как мы очутились у решетки парка. Я увидел укутанные соломой розовые кусты, колодец, террасу и синюю черепичную крышу барского дома. Я чрезвычайно изумился этому, так как совершенно не мог вспомнить, когда мы проходили через деревню.
Нам пришлось подождать. Два воза, запряженные волами и нагруженные удобрениями, зацепились друг за друга колесами и намертво загородили путь. Колеса скрипели, волы мычали, возницы ругались – и посреди всего этого шума барон фон Малхин продолжал свой рассказ:
– Папа знал о существовании сына Энцио. «Из милосердия и христианской любви мы не будим вспоминать о нем», – говорил Клементий IV[55]. Так и продолжали Гогенштауфены жить на протяжении веков в Бергамо, в забвении и бедности. Из поколения в поколение передавали они тайну своего происхождения вместе с двумя тетрадями, в которые Энцио записывал свои песни и романсы. Тот человек, которого я разыскивал одиннадцать лет тому назад в Бергамо и которого мне наконец удалось найти, сохранил эти тетради до наших дней. Он добывал себе пропитание столярным мастерством и по случаю крайней нужды отдал мне своего сына, а я привез его сюда.