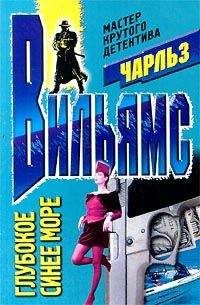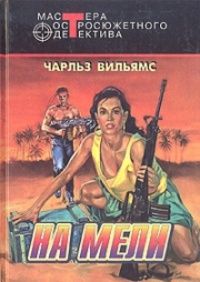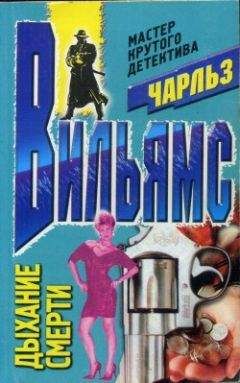Чарльз Вильямс - Канун дня всех святых
— Это лучшее из всего, что ты сделал, — с чувством ответил Ричард. Это словно современное Сотворение Мира — по крайней мере, Сотворение Лондона. Как это тебе удалось?
— Сэр Джошуа Рейнольдс, — сказал Джонатан, — однажды сослался на "простое видение и ясное понимание" как источник всякого искусства. Мне бы хотелось считать, что здесь я согласен с сэром Джошуа.
Ричард все еще рассматривал картину. Через минуту он медленно проговорил:
— Тебе всегда удавался свет. Я помню луну в "Голубях на крыше", впрочем, в "Истребителях" и в "Подлодке" тоже есть что-то от этого. Конечно, световых эффектов скорее ждешь на воде или в воздухе, поэтому и вздрагиваешь от неожиданности, когда земля вдруг становится похожей на них. Но не это главное. Удивительно, как ты ухитряешься, не теряя воздушности, сохранять ощущение веса. Никто не может сказать, что вещи у тебя на картине бестелесны.
— Надеюсь, никто и не скажет, — усмехнулся Джонатан. — Я вовсе не собирался терять одно, сосредоточившись на другом. А вот изобразить весомость света…
— Что ты имеешь в виду? — спросил Ричард.
— К сожалению, я имею в виду компромисс, — ответил Джонатан. — Ричард, ну и зануда ты! Почему ты всегда норовишь подсказать, что еще я должен сделать?
Ты же не даешь мне порадоваться тому, что я уже совершил! Да, я теперь и сам вижу, это — всего лишь компромисс. Превращение света в предметы. Придется отказаться от вещей и перейти к чистому свету.
Ричард улыбнулся.
— Как насчет ближайшего будущего? Не собираешься превратить какой-нибудь танк в поток чистых световых вибраций?
Джонатан задумался.
— Тут можно бы… — начал он, но оборвал сам себя. — Что-то я разболтался. Пойдем, посмотрим вторую работу, она совсем другая, — и он обошел мольберт с другой стороны. — Ты слышал об Отце Саймоне?
— Кто же не слышал? — отозвался Ричард. — Разве о нем не трубят все газеты, как будто он важнее мирного договора? Вообще, Министерство иностранных дел интересуется всеми новоявленными пророками, включая и этого. Есть еще один в России и один — в Китае. В такие времена они и возникают. Но с нашей точки зрения все они представляются совершенно невинными. Я лично как-то не вдавался в подробности.
— Как и я, — кивнул Джонатан, — пока не встретил леди Уоллингфорд. С тех пор я много читал о нем, слушал его, встречался с ним, а теперь вот рисовал его.
Леди Уоллингфорд встретилась с ним в Америке после Первой мировой войны, и, как я понял, тогда же подпала под его чары. Во время этой войны он стал одним из великих религиозных вождей, и когда он приехал сюда, она организовала из самой себя комитет по его встрече. Она предана ему; Бетти тоже, хотя и не столь сильно, но она во всем слушается мать, — он нахмурился и помедлил, словно собирался сказать еще что-то о Бетти и ее матери, но передумал. — Леди Уоллингфорд решила, что для меня — высокая честь рисовать Пророка.
— Они его так называют? — спросил Ричард.
Держа руку на покрывале, Джонатан заколебался.
— Нет, — сказал он, — не хочу быть несправедливым.
Нет. На самом деле она зовет его Отцом. Я спросил ее, священник ли он, но она, похоже, меня не услышала. В Америке у него было огромное количество приверженцев, а здесь, вопреки газетной шумихе, он держится очень тихо. Про него говорят, что он единственный, кто мог бы наставить Германию на путь истинный. Говорят еще, что он и его коллеги из России и Китая могли бы составить Мировой Триумвират. Но он сам до сих пор по этому вопросу не высказывался. Может быть, просто выжидает. Ну, я сделал все, что мог. Вот что получилось.
Он отдернул ткань, и Ричард остался наедине с картиной. С первого взгляда казалось, что на ней изображен проповедник. Собрание, весьма многочисленное, внимательно слушает. Люди немного подались вперед, и Ричард видел только множество слегка изогнутых спин. Не церковь… но и не комната… трудно понять, где происходит сборище, впрочем, Ричарда это мало заботило. Какое-то открытое пространство; земля напоминает развалины на предыдущей картине, только местность более. каменистая, скорее похожая на пустыню, чем на Город, На чем-то напоминающем каменную кафедру, высеченную из темной скалы, стоял проповедник — рослый темноволосый человек далеко за сорок, в своеобразном облачении. Чисто выбритое, тяжелое, изнуренное лицо словно нависло над аудиторией. Одна рука вытянута вперед и чуть опущена книзу, но открытая ладонь обращена вверх. За ним на скале — черная тень, над ним мчатся по небу тяжелые облака.
Ричард заговорил, одновременно проверяя свои ощущения. Он попристальнее всмотрелся в фигуру проповедника, особенно в лицо. Полотно было приличных размеров, но лицо говорившего упорно не желало увеличиваться, оно все время оставалось маленьким, хотя и тщательно проработанным, и пока Ричард рассматривал его, превратилось в маленький цветной овал, придавив слушателей внизу и обесцветив вокруг себя все — облака, толпу, каменную кафедру. Если это и вправду была кафедра — Ричард не мог решить, то ли фигура отбрасывает тень на скалу, то ли выступает из расщелины. Но лицо! Проповедник пригнул голову, словно стремясь скрыть выражение, которое мог уловить художник, и не успел — Джонатан прекрасно уловил его. Что же именно он все-таки уловил? И почему Джонатан предпочел создать именно этот эффект неудавшейся попытки ускользнуть, увернуться?
Наконец Ричард сказал:
— Потрясающий эффект — особенно от цвета лица.
Не знаю, как тебе удалось передать эту мрачную мертвенность. Но что… — он остановился.
— Ричард, — обвиняющим тоном произнес художник, — ты собирался спросить, что это значит.
— По-моему, нет, — ответил Ричард. — Я скорее хотел спросить, что он значит. У меня такое чувство, что в нем есть что-то, чего я не уловил. Он… — снова пауза.
— Продолжай! — сказал Джонатан. — У нас еще есть время до прихода дам, и я надеюсь, ты получишь хотя бы общее представление о том, зачем ты мне нужен здесь, когда они придут. Как бы там ни было, продолжай, говори все, что в голову взбредет.
Ричард послушно возобновил исследования и комментарии. Они и раньше устраивали такие обсуждения новых работ Джонатана. Ричард не боялся сказать глупость, а друг его давно уверился, что Ричард не станет ругать картину понапрасну; он даже полагал, что один такой монолог стоит десятка критических статей. Джонатан считал, что такое возможно только в живописи: стихи или симфония воспринимаются иначе, нежели картина; протяженность во времени, в отличие от протяженности в пространстве, не дает возможности целостного восприятия. Впрочем, даже для восприятия картины нужно время, хоть и сравнительно небольшое. В этом-то музыка и проигрывает живописи — ее нельзя услышать всю сразу.