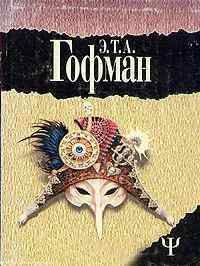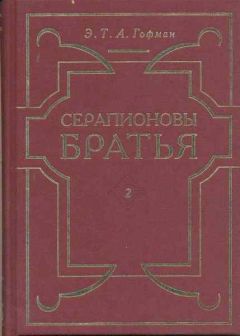Эрнст Гофман - Песочный человек
Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и очки и стал раскладывать их на столе.
― Ну вот, ну вот, ― очки, очки надевать на нос, ― вот мой глаз, ― хороши глаз!
И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и таращились; и он уже сам не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скалили эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал:
― Остановись, остановись, ужасный человек!
Он крепко схватил Копполу за руку в ту минуту, когда тот полез в карман, чтобы достать еще новые очки, невзирая на то что весь стол уже был ими завален. С противным сиплым смехом Коппола тихо высвободился, приговаривая:
― А, ― не для вас, ― но вот хорош стекло. ― Он сгреб в кучу все очки, попрятал их и вынул из бокового кармана множество маленьких и больших подзорных трубок. Как только очки были убраны, Натанаэль совершенно успокоился и, вспомнив о Кларе, понял, что ужасный сей призрак возник в собственной его душе, равно как и то, что Коппола ― весьма почтенный механик и оптик, а никак не проклятый двойник и выходец с того света Коппелиус. Также и во всех инструментах, которые Коппола разложил на столе, не было ничего особенного, по крайней мере столь призрачного, как в очках, и, чтобы все загладить, Натанаэль решил в самом деле что-нибудь купить у Копполы. Итак, он взял маленькую карманную подзорную трубку весьма искусной работы и, чтоб попробовать ее, посмотрел в окно. Во всю жизнь не попадались ему стекла, которые бы так верно, чисто и явственно приближали предметы. Невольно он поглядел в комнату Спаланцани; Олимпия, по обыкновению, сидела за маленьким столом, положив на него руки и сплетя пальцы. Тут только узрел Натанаэль дивную красоту ее лица. Одни глаза только казались ему странно неподвижными и мертвыми. Но чем пристальнее он всматривался в подзорную трубку, тем более казалось ему, что глаза Олимпии испускают влажное лунное сияние. Как будто в них только теперь зажглась зрительная сила; все живее и живее становились ее взоры. Натанаэль как завороженный стоял у окна, беспрестанно созерцая небесно прекрасную Олимпию. Покашливание и пошаркивание, послышавшиеся подле него, пробудили его как бы от глубокого сна. За его спиной стоял Коппола: «Tre zechini ― три дуката». Натанаэль совершенно забыл про оптика; он поспешно заплатил, сколько тот потребовал.
― Ну, как, ― хорош стекло? Хорош стекло? ― спросил с коварной усмешкой Коппола мерзким сиплым голосом.
― Да, да, да! ― досадливо отвечал Натанаэль.
― Adieu, любезный. ― Коппола удалился, не переставая бросать на Натанаэля странные косые взгляды. Натанаэль слышал, как тот громко смеялся на лестнице. «Ну вот, ― решил он, ― он смеется надо мною потому, что я слишком дорого заплатил за эту маленькую подзорную трубку ― слишком дорого заплатил!» Когда он прошептал эти слова, в комнате послышался леденящий душу, глубокий, предсмертный вздох; дыхание Натанаэля перехватило от наполнившего его ужаса. Но это он сам так вздохнул, в чем он тотчас же себя уверил. «Клара, ― сказал он наконец самому себе, ― справедливо считает меня вздорным духовидцем, однако ж не глупо ли, ― ах, более чем глупо, ― что нелепая мысль, будто я переплатил Копполе за стекло, все еще странно тревожит меня; я не вижу для этого никакой причины». И вот он присел к столу, чтобы окончить письмо Кларе, но, глянувши в окно, убедился, что Олимпия все еще на прежнем месте, и в ту же минуту, словно побуждаем непреодолимою силою, он вскочил, схватил подзорную трубку Копполы и уже не мог более отвести взора от прельстительного облика Олимпии, пока его друг и названый брат Зигмунд не пришел за ним, чтобы идти на лекцию профессора Спаланцани. Занавеска, скрывавшая роковую комнату, была плотно задернута; ни в этот раз, ни в последующие два дня он не мог увидеть Олимпию ни здесь, ни в ее комнате, хотя почти не отрывался от окна и беспрестанно смотрел в подзорную трубу Копполы. На третий день занавесили даже окна. Полон отчаяния, гонимый тоской и пламенным желанием, он побежал за город. Образ Олимпии витал перед ним в воздухе, выступая из-за кустов, и большими светлыми глазами глядел на него из прозрачного родника. Облик Клары совершенно изгладился из его сердца; ни о чем более не думая, как только об Олимпии, он стенал громко и горестно: «О прекрасная, горняя звезда моей любви, неужто взошла ты для того только, чтоб тотчас опять исчезнуть и оставить меня во мраке безутешной ночи?»
Возвращаясь домой, Натанаэль заметил в доме профессора Спаланцани шумное движение. Двери были растворены настежь, вносили всякую мебель; рамы в окнах первого этажа были выставлены, хлопотливые служанки сновали взад и вперед, подметали пол и смахивали пыль длинными волосяными щетками. Столяры и обойщики оглашали дом стуком молотков. Натанаэль в совершенном изумлении остановился посреди улицы; тут к нему подошел Зигмунд и со смехом спросил:
― Ну, что скажешь о старике Спаланцани?
Натанаэль ответил, что он решительно ничего не может сказать, ибо ничего не знает о профессоре, более того, не может надивиться, чего ради в таком тихом, нелюдимом доме поднялась такая кутерьма и суматоха; тут он узнал от Зигмунда, что Спаланцани дает завтра большой праздник, концерт и бал и что приглашена половина университета. Прошел слух, что Спаланцани в первый раз покажет свою дочь, которую он так долго и боязливо скрывал от чужих взоров.
Натанаэль нашел у себя пригласительный билет и в назначенный час с сильно бьющимся сердцем отправился к профессору, когда уже стали съезжаться кареты и убранные залы засияли огнями. Собрание было многочисленно и блестяще. Олимпия явилась в богатом наряде, выбранном с большим вкусом. Нельзя было не восхититься прекрасными чертами ее лица, ее станом. Ее несколько странно изогнутая спина, ее талия, тонкая, как у осы, казалось, происходили от слишком сильной шнуровки. В ее осанке и поступи была заметна какая-то размеренность и жесткость, что многих неприятно удивило; это приписывали принужденности, которую она испытывала в обществе. Концерт начался. Олимпия играла на фортепьяно с величайшей беглостью, а также пропела одну бравурную арию чистым, почти резким голосом, похожим на хрустальный колокольчик. Натанаэль был вне себя от восторга; он стоял в самом последнем ряду, и ослепительный блеск свечей не дозволял ему хорошенько рассмотреть черты певицы. Поэтому он незаметно вынул подзорную трубку Копполы и стал смотреть через нее на прекрасную Олимпию. Ах, тут он приметил, с какой тоской глядит она на него, как всякий звук сперва возникает в полном любви взоре, который воспламеняет его душу. Искуснейшие рулады казались Натанаэлю возносящимся к небу ликованием души, просветленной любовью, и, когда в конце каденции по залу рассыпалась долгая звонкая трель, словно пламенные руки внезапно обвили его, он уже не мог совладать с собою и в исступлении от восторга и боли громко вскрикнул: «Олимпия!» Все обернулись к нему, многие засмеялись. Соборный органист принял еще более мрачный вид и сказал только: «Ну-ну!» Концерт окончился, начался бал. «Танцевать с нею! с нею!» Это было целью всех помыслов, всех желаний Натанаэля; но как обрести в себе столько дерзости, чтобы пригласить ее, царицу бала? Но все же! Когда танцы начались, он, сам не зная как, очутился подле Олимпии, которую еще никто не пригласил, и, едва будучи в силах пролепетать несколько невнятных слов, взял ее за руку. Как лед холодна была рука Олимпии; он содрогнулся, почувствовав ужасающий холод смерти; он пристально поглядел ей в очи, и они засветились ему любовью и желанием, и в то же мгновение ему показалось, что в жилах ее холодной руки началось биение пульса и в них закипела живая, горячая кровь. И вот душа Натанаэля еще сильнее зажглась любовным восторгом; он охватил стан прекрасной Олимпии и умчался с нею в танце. До сих пор он полагал, что всегда танцует в такт, но своеобразная ритмическая твердость, с какой танцевала Олимпия, порядком сбивала его, и он скоро заметил, как мало держится такта. Однако он не хотел больше танцевать ни с какой другой женщиной и готов был тотчас убить всякого, кто бы ни подошел пригласить Олимпию. Но это случилось всего два раза, и, к его изумлению, Олимпия, когда начинались танцы, всякий раз оставалась на месте, и он не уставал все снова и снова ее приглашать. Если бы Натанаэль мог видеть что-либо, кроме прекрасной Олимпии, то неминуемо приключилась бы какая-нибудь досадная ссора и перепалка, ибо, нет сомнения, негромкий, с трудом удерживаемый смех, возникавший по углам среди молодых людей, относился к прекрасной Олимпии, на которую они, неизвестно по какой причине, все время устремляли любопытные взоры. Разгоряченный танцами и в изобилии выпитым вином, Натанаэль отбросил природную застенчивость. Он сидел подле Олимпии и, не отпуская ее руки, с величайшим пылом и воодушевлением говорил о своей любви в выражениях, которых никто не мог бы понять ― ни он сам, ни Олимпия. Впрочем, она-то, быть может, и понимала, ибо не сводила с него глаз и поминутно вздыхала: «Ах-ах-ах!»