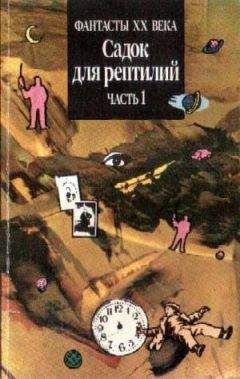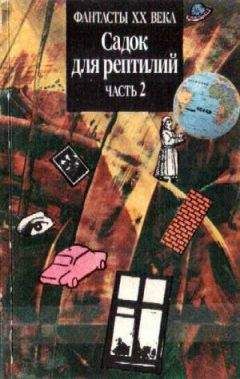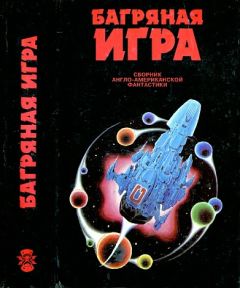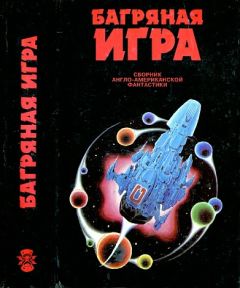Джозеф Ле Фаню - Проклятый остров
Наступила тишина.
— И что же, — начал отец Бертранд, — ваш приятель-медиум так ничего больше не рассказал о своем видении?
— Я его не спрашивал, потому что, придя в себя, он, похоже, совершенно не помнил, о чем говорил во время транса. Но спустя несколько лет я узнал кое-что, проливающее некоторый свет на этот эпизод, причем узнал совершенно неожиданно. Немного терпения, и я покажу вам, как мне кажется, ту самую картину, что виднелась в глубине ниши! — Подойдя к одному из книжных шкафов, старик извлек оттуда большой том.
— Картина, которую я собираюсь вам показать, представляет собой точную копию одной из фресок в катакомбах святых Петра и Марцеллина:[146] на нее я набрел совершенно неожиданно, когда учился в Риме. После этого фреску воспроизвел Ланчани[147] в своей книге. А, вот она. — Сквайр положил альбом на стол. Перед нами, несомненно, была репродукция фрески из катакомб с изображением «агапэ»[148] или «трапезы любви»: группа фигур символизировала одновременно тайную вечерю и причащение избранных. К тому же времени относились надписи наверху: «IRENE DA CALDA» и «AGAPE MISCE MI»,[149] а вот буквы в перечне имен, расположенном по кругу, свидетельствовали о значительно более позднем происхождении. «POMPONIUS, FABIANUS, RUFFUS, LETUS, VOLSCUS, FABIUS» и прочие — все члены пресловутой Академии. Там они начертали углем свои имена, там их имена остаются и поныне — зловещим напоминанием о том, какому поруганию подверглись сокровеннейшие глубины христианских катакомб, где в пятнадцатом-шестнадцатом веках неоязычники отправляли культ Сатаны.
Мы посидели молча, глядя на картину, и наконец герр Ауфрехт обратился к доминиканцу:
— Фра Бертранд, вы магистр теологии — что вы обо всем этом скажете?
Святой брат немного поколебался, потом ответил:
— Что ж, герр Ауфрехт, церковь всегда учила, что одержимость дьяволом возможна, но если есть одержимые люди, почему бы не быть и одержимым предметам? Но если вас интересует мое мнение о практической стороне дела, скажу вот что: если уж отец Филип не имеет законного права расстаться со своим фамильным сокровищем, то самым мудрым решением с его стороны будет и впредь держать фонтан под замком.
Джаспер Джон
Об этом авторе рассказов, многократно входивших в разнообразные «готические» антологии, практически ничего не известно за исключением подлинного имени (женского, как и у многих авторов настоящего тома), двух сборников рассказов — «Sinister Stories», т. е. «Мрачные рассказы» (1930), и «Tales of Terror», т. е. «Повествования об ужасном» (1931), — и того, что он (точнее, она) имеет склонность в заглавиях использовать аллитерацию, т. е. подбирать пары слов на одну букву. Собственно, поэтому переводчик предпочел по-русски назвать один из рассказов настоящего сборника «Дух дольмена», отойдя от буквального перевода — «Дух Стоунхенджа» (The Spirit of Stonehenge).
ДУХ ДОЛЬМЕНА[150]
(Пер. С. Сухарева)
— О, да ты, как я слышал, покинул насиженное место? Странно! — заявил я Рональду Долтону.
Рональд кивнул.
— Очень, очень жаль, но после того, что случилось, нас никакими силами там нельзя было удержать. Я тебе ни о чем не рассказывал, но тогда мы ни с кем, даже и со старыми друзьями, особо не делились.
Мы сидели вдвоем в сумерках июньского вечера. За окнами — после сильнейшей грозы — по крышам, по деревьям, по стеклам хлестал ливень.
— Если хочешь, могу тебе рассказать, — вдруг произнес Рональд.
Я втайне надеялся на это, поскольку Рональд строго соблюдал верность фактам, а мое любопытство разожгли газетные отчеты о необычном способе самоубийства, совершенного одним из его гостей.
— Мой брат, — начал Рональд бесстрастным тоном, что придавало его рассказу большую убедительность, — тесно сошелся в Лондоне с Гэвином Томсоном. Я познакомился с Гэвином, когда он на неделю приехал к нам погостить. Он страстно увлекался раскопками, а оставленное отцом приличное состояние позволяло ему вволю предаваться любимому занятию.
Гэвину не исполнилось еще и тридцати, это был темноволосый красивый юноша, мужественного вида. Несмотря на молодость, он уже завоевал себе известность даже среди специалистов. Ходили истории о его жизни среди бедуинов[151] — для европейца нечто неслыханное. Но побудить его живописать свои подвиги было непросто.
Я тоже, как и брат, проникся к нему симпатией: личностью он был притягательной. Гэвин утверждал, что проштудировал все старинные книги о Стоунхендже,[152] какие только сумел раздобыть. Он был зачарован преданиями о друидах и горел желанием проверить кое-какие свидетельства самолично.
Гэвин спросил, известно ли нам что-либо об элементалях,[153] но тут же рассмеялся и попросил нас не опасаться — он ими не одержим. Мы стали расспрашивать Гэвина подробнее: мне почудилось, что за его небрежной манерой скрывается нешуточная озабоченность. Гэвин определил элементалей как уродливых злых духов, не имеющих образа. Они стремятся найти человеческое тело, с тем чтобы в него внедриться. Предполагается, что им дана определенная власть над смертными в той местности, где некогда торжествовало великое зло.
Внезапно Гэвин оборвал себя и принялся толковать о лунном свете на дольмене Стоунхенджа, развивая престранную собственную теорию, недоступную нашему пониманию. Мне показалось, что он нарочно морочит нам голову, желая отвлечь от затронутой ранее темы.
Временами Гэвин снисходил до нашего уровня: пояснил, в частности, что друиды предпочитали совершать свои ритуалы в определенные фазы Луны. «Потому-то я и должен проводить исследования по ночам», — добавил он. Мы вручили ему ключ, чтобы он мог входить в дом и выходить, когда ему вздумается. Гэвин признался нам, что стоит на пороге величайшего открытия, которое впишут в историю.
Пробыв у нас две недели, Гэвин отправился на поиски материалов в Бретань, но до отъезда успел исписать целую груду листов. Через три месяца он вернулся — больной, исхудавший; запавшие глаза лихорадочно блестели. Мы умоляли его дать себе ночью отдых, но он и слышать ничего не хотел, а стоило только ему заговорить о Стоунхендже, как глаза у него странным образом загорались.
Ночью, когда Гэвин отправился в свою экспедицию, я поднялся к нему в комнату с целью убедиться, что у него есть все нужное. Повсюду валялись книги; на столе лежал том с какой-то закладкой. Я раскрыл его и обнаружил там нож — кривой, из чистого золота — и без труда определил, что это образчик жертвенного ножа; лезвие его было таким острым, что я глубоко порезал себе палец.