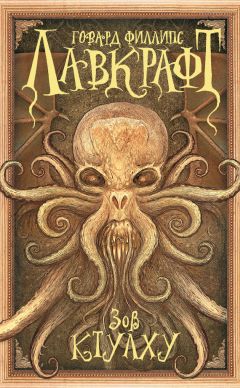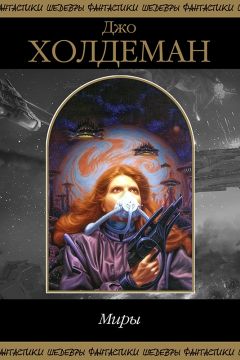Говард Лавкрафт - Зов Ктулху (сборник)
Инсмутцы очень любят воду и много плавают в реке и в заливе. Особой популярностью пользуются соревнования по плаванию к Рифу Дьявола. Останови на улице любого и предложи участвовать в таком заплыве – можешь не сомневаться, что тот согласится и с честью выдержит нелегкое испытание. Впрочем, ничего удивительного, ведь на улице встречается в основном молодежь, ну а те, что постарше, выглядят так, словно они больны. Исключения бывают только среди тех, кого нельзя назвать типичными инсмутцами, вроде клерка в гостинице. Никто не знает, какие биологические изменения сопутствуют старению местных жителей и не являются ли типичные для инсмутца черты внешности признаками неизвестной и незаметно подкрадывающейся болезни, которая с годами набирает силу.
С приходом зрелости эта неведомая науке болезнь вызывает в их организме значительные изменения, затрагивающие даже костные ткани – форма черепа, и та становится иной. Впрочем, обо всех признаках болезни, как справедливо заметил юноша, судить трудно: местные жители не вступают ни в какие отношения с приезжими, даже если те годами живут в Инсмуте.
Юноша не сомневался, что самых безобразных городские власти где-то прячут. Время от времени люди слышат какие-то странные звуки. По общему мнению, ветхие хибары в северной части реки соединены между собой подземными туннелями, возможно, там-то и скрываются эти уроды. На мой вопрос, есть ли в местных жителях примесь чужой крови, юноша ничего не смог ответить. Точно известно лишь одно: когда в город наезжают государственные служащие и другие посланцы из внешнего мира, инсмутцы делают все, чтобы скрыть от них отталкивающие стороны своей жизни.
Самое бесполезное занятие, сказал юноша, задавать местным жителям вопросы. На них отвечает только один человек – непохожий на прочих инсмутцев старик, живущий в северной части города, в богадельне, он весь день шатается по улицам, чаще всего в районе пожарного депо. Этого седовласого старика девяноста шести лет от роду зовут Зедок Аллен. Он немного не в себе и давно носит титул городского пьянчужки. Странный, диковатого вида старик все время оглядывается, словно чего-то боясь, и на трезвую голову никогда не вступает в разговор с посторонними. Однако ему бывает невмоготу отказаться от рюмочки-другой спиртного, после чего язык у него тут же развязывается, и тогда можно услышать диковинные вещи.
Но и от старика правды не узнаешь: все его истории – порождение больной фантазии, безумный бред, полный неясных намеков на немыслимые ужасы и чудеса. Никто не верит ему, но горожанам все же не нравится, когда он пьет и болтает с приезжими. Открыто приставать к нему с вопросами небезопасно. Но, очевидно, именно его рассказы породили фантастические легенды о здешних несуразностях.
Кое-кто из приезжих, живших здесь по роду службы некоторое время, рассказывал о каких-то будто бы виденных ими кошмарах. Впрочем, имея все время перед глазами уродливых горожан и слушая рассказы старого Зедока, немудрено спятить. Теперь гости города никогда не выходят поздно вечером из дома – считается, что это тоже опасно. Да и улицы почти не освещаются.
Говоря о занятиях местного населения, юноша упомянул, что рыба у здешних берегов просто кишмя кишит, но этим не умеют пользоваться. Цены на улов падают, а конкуренция растет. Так что самым надежным делом в городе является работа на золотообрабатывающей фабрике, контора которой находится рядом, на площади, в нескольких шагах отсюда. Старика Марша никто давно не видел, но иногда он проезжает мимо, к себе на фабрику, в машине с зашторенными окнами.
О внешности Марша ходят разные слухи. Когда-то он был большим щеголем; говорят, что и теперь по-прежнему носит элегантные костюмы с узкими брюками, которые с трудом подгоняют по его обезображенной фигуре. Еще недавно его сыновья принимали клиентов в конторе, но теперь их что-то тоже не видно. По последним сведениям, делами занялось младшее поколение. Сыновья же и дочери Марша стали как-то странно выглядеть, особенно те, что постарше. По слухам, их здоровье сильно пошатнулось.
Одна из дочерей Марша, уродливая, похожая на жабу женщина, носит причудливые драгоценности, выполненные, как я понял, в той же экзотической манере, что и тиара. Юноша видел тиару несколько раз и слышал, что ее нашли в каком-то кладе – то ли пиратов, то ли самого нечистого. Местные священники или пасторы – кто знает, как их величают, – тоже носят такой убор с таинственным орнаментом. Да только посмотреть на это убранство редко удается. Похожие драгоценности, по слухам, водятся еще кое у кого в Инсмуте, но сам юноша их не видел.
Марши и еще три семьи местной знати – Уайты, Джилмены и Элиоты – держатся особняком. Живут они в просторных домах на Вашингтон-стрит и, как поговаривают, укрывают там тех своих родственников, чей облик стал непереносим для окружающих. К слову сказать, город почитает этих родственников покойными.
Юноша предупредил меня, что на многих улицах отсутствуют таблички с названиями, и по собственной инициативе начертил примитивный, но вполне пригодный для использования план центральной части города. Едва взглянув на план, я понял, что он будет для меня большой подмогой, и, горячо поблагодарив своего наставника, сунул листок в карман. Отнесясь с опаской к грязному заведению, именуемому здесь рестораном, я тут же, в магазине, купил себе на ленч сырных крекеров и имбирных вафель. Пожалуй, надо будет обойти все главные улицы города, побеседовать с теми прохожими, у которых нет типично инсмутского облика, а в восемь вечера сесть на автобус, отправляющийся в Аркхем. Я уже понял, что Инсмут представляет собой законченный пример глубокого социального вырождения, но, не будучи социологом, положил для себя ограничиться осмотром архитектурных достопримечательностей.
Для начала я принялся систематически, одну за другой, прочесывать узкие, запущенные городские улицы. Пересек мост и направился в сторону рокочущего водопада, подойдя довольно близко к фабрике Марша. Удивляло отсутствие обычного для таких мест индустриального шума. Фабричное здание стояло на крутом берегу реки неподалеку от моста и той площади, к которой сходились улицы и которую я принял за изначальный центр города, впоследствии, после Революции, переместившийся на Городскую площадь.
Переправившись мостом через ущелье в район Мейн-стрит, я оказался в таких трущобах, что мне стало не по себе. На голубом небе проступали угловатые очертания прилепившихся друг к другу кособоких крыш. Над ними высился полуразрушенный старинный собор, креста на шпиле не было. Лишь немногие дома на Мейн-стрит выглядели обитаемыми, большинство же пустовало. По обеим сторонам улицы с незаасфальтированными пешеходными дорожками тянулся длинный ряд покинутых хибар с осевшим фундаментом, кренившихся к земле под самыми немыслимыми углами. Вместо окон зияли черные пустые дыры. Все это навевало такую жуть, что требовалось изрядное мужество, чтобы пройти по улице к порту. Ведь если вместо одного покинутого жилища видишь целое покинутое селение, страх возрастает даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Ни одна самая пессимистичная концепция не может пробудить в душе такого первозданного страха и панического неприятия, как вид бесконечных, вызывающих мысли о смерти молчаливых улиц. Что может быть мрачнее пустующих просторов темных жилищ, отданных во власть паутины, воспоминаний и торжествующих червей-древоточцев?