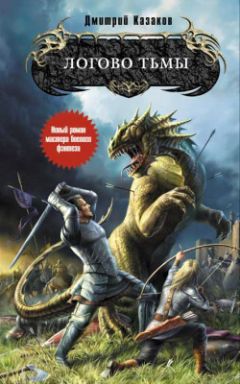Дин Кунц - Логово
– А что, есть и такое направление?
– Не совсем направление. В наше время религиозная тема мало интересует действительно талантливых художников. В основном работают поденщики. Но иногда, случайно… вдруг набредаешь на истинный талант, пытающийся посмотреть на прошлое глазами современного человека. Когда соберу эту коллекцию и распоряжусь ею, как должно, перевезу сюда из дома картины современных художников.
Во взгляде Хатча, который он перевел с картины на врача, мелькнул профессиональный интерес.
– Собираетесь продавать?
– Боже упаси! – махнул рукой Нейберн, возвращая авторучку в нагрудный карман. Рука его с длинными тонкими, как это часто бывает у хирургов, пальцами задержалась у кармана, словно он торжественной клятвой подтверждал истинность того, что говорил. – Я принесу ее в дар. За последние двадцать лет это будет уже шестая коллекция религиозной живописи, которую я собрал, а затем подарил.
Прикинув в уме примерную стоимость развешанных по стенам картин, Хатч поразился размаху филантропии доктора.
– И кто же счастливый получатель?
– Ну, как вам сказать, обычно я приношу свои коллекции в дар какому-нибудь католическому университету, а в двух случаях были и другие церковные учреждения.
Хирург, не отрываясь, смотрел на "Вознесение", но, казалось, видел не его, а то, что было за картиной, за стеной, на которой она висела, далеко за горизонтом. Рука его все еще неподвижно оставалась у нагрудного кармана.
– Весьма великодушно с вашей стороны, – восхитился Хатч.
– Это не акт великодушия. – Глухо, как бы отдаленно звучавший голос Нейберна полностью соответствовал его отсутствующему взгляду. – Это акт искупления.
Заявления такого рода требуют дополнительных разъяснений, и Хатч понимал, что, задавая вопросы, обязательно вторгается в святая святых души врача.
– Искупления за что?
Нейберн все еще не отрывал взгляда от картины:
– Я никогда никому об этом не говорю.
– Я спросил не из праздного любопытства. Просто мне показалось…
– А может быть, мне действительно станет легче, если я все же решусь раскрыть кому-нибудь свою душу. Как вы полагаете?
Хатч не ответил, отчасти потому, что вопрос хирурга был – во всяком случае, так ему показалось – обращен не столько к нему лично, сколько к самому себе.
– Искупление, – повторил Нейберн. – Во-первых, искупление за то, что был сыном своего отца. А позже… за то, что был отцом своего сына.
Хатч не понимал, каким образом и то и другое могло быть грехом, но он промолчал, ожидая пояснений хирурга. Он начинал чувствовать себя так, как в поэме Колриджа чувствовал себя шедший на вечеринку прохожий, когда на его пути неожиданно возник Старый Моряк со своей страшной повестью, которую он стремился поведать хоть кому-нибудь, лишь бы не держать ее в себе из-за боязни, что растеряет и те ничтожные крохи здравого рассудка, которые пока чудом сохранил.
Уставившись немигающим взором на картину, Нейберн продолжал:
– Когда мне было семь лет, мой отец сошел с ума. В припадке бешенства он застрелил мою мать и брата. Ранил меня и сестру, решил, что нас тоже убил, а затем застрелился сам.
– Простите меня, – быстро проговорил Хатч, и в памяти его тотчас возник образ собственного отца с его дикими выходками. – Ради Бога, простите меня, доктор.
Но в чем был здесь грех, требовавший искупления от Нейберна, ему все равно было невдомек.
– Некоторые психические заболевания имеют генетическую природу. Когда я заметил признаки социопатического поведения у своего малолетнего сына, я должен был бы знать, что последует за этим, и каким-то образом постараться пресечь это в зародыше. Но не пожелал смотреть правде в глаза. Слишком было больно. И вот, два года тому назад, когда ему исполнилось восемнадцать, он сначала зарезал свою сестру…
Хатч содрогнулся.
– …затем свою мать, – докончил Нейберн.
Первым побуждением Хатча было прикоснуться рукой, в знак утешения, к руке хирурга, но он не сделал этого, так как вдруг понял, что унять боль Нейберна и залечить его рану не в состоянии ни медицина, ни утешительные жесты, ни слова. Несмотря на то что хирург рассказывал ему о сугубо личной трагедии, он не искал у Хатча сочувствия или дружеского участия. И казался на удивление замкнутым в самом себе. Он рассказывал о трагедии, потому что пришло время вытащить ее на свет божий из глубин души и заново пересмотреть, и не важно, кто был перед ним – Хатч, или кто-нибудь другой, или вообще никого, – он все равно должен был бы ее поведать.
– А когда они умерли, – монотонно гудел голос Нейберна, – Джереми взял этот же нож, нож убийцы, отнес его в гараж, закрепил рукоятку в тисках на верстаке, встал на табуретку и упал на него грудью. Истек кровью и умер.
Правая рука хирурга все еще оставалась у нагрудного кармана, но он уже не казался человеком, жестом подтверждающим истинность того, что рассказывает. Теперь он напоминал Хатчу картину, изображающую Иисуса Христа с открытым миру Священным Сердцем и указующей на этот символ самопожертвования и надежды тонкой божественной рукой.
Наконец Нейберн оторвал взгляд от "Вознесения" и посмотрел прямо в глаза Хатчу.
– Утверждают, что зло есть следствие наших поступков, результат наших желаний. И я верю, что так оно и есть – но не только. Ибо зло – это еще и какая-то неведомая, существующая вне нас энергия, некая самостоятельная сила. Вы ведь тоже в это верите, Хатч?
– Да, – непроизвольно вырвалось у Хатча, и он сам подивился собственному ответу.
Нейберн взглянул на рецептурный бланк, который все еще держал в левой руке. Отняв наконец правую руку от нагрудного кармана, оторвал верх бланка и протянул его Хатчу.
– Его фамилия Фостер. Доктор Габриэль Фостер. Уверен, он сможет вам помочь.
– Спасибо, – деревянным голосом отозвался Хатч.
Нейберн открыл дверь кабинета и жестом пригласил Хатча пройти в нее первым.
В коридоре хирург вдруг позвал его:
– Хатч!
Хатч остановился и вопросительно обернулся.
– Простите меня, – сказал Нейберн.
– За что?
– За то, что объяснил, почему раздариваю свои коллекции.
Хатч кивнул головой.
– Но ведь я сам об этом попросил.
– Но я бы мог быть менее пространным.
– То есть?
– Я мог бы просто сказать: думаю, что единственный способ для меня попасть в рай – это оплатить дорогу в один конец.
На залитой солнечным светом автостоянке Хатч долгое время неподвижно сидел за рулем машины, наблюдая через лобовое стекло за осой, висевшей в воздухе над красным капотом, ошибочно принимавшей его за огромную розу.
Разговор в кабинете Нейберна казался странным сном, и у Хатча было такое ощущение, что он все еще никак не может проснуться окончательно. Он чувствовал, что трагедия наполненной смертями жизни Нейберна имела прямое отношение к нынешним его проблемам, но связующая их нить все время ускользала от него, как ни старался он ее нащупать.