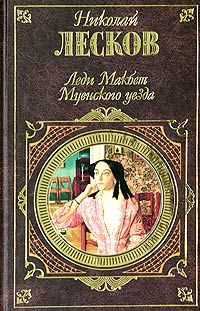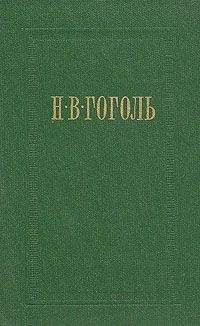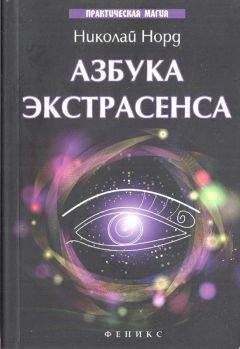Николай Норд - Избранник Ада
Откровенно говоря, стихи мне не очень понравились, но я был не силен в поэзии и похлопал лишь из уважения к великому имени.
– Обмельчал талант, – грустно резюмировал выступление Есенина Баал-берита, – на Земле соловьем заливался, а тут стучит, как пионерский барабан… У всех здесь не получается так хорошо, как у вас на Земле – что у деятелей искусства, что у ученых и инженеров. Вроде, тоже тут что-то изобретают, что-то суетятся, творят, а от тех, что создают там, на тверди земной, отстают… В чем дело? То ли жизнь бесконечна, не торопятся, то ли пресыщены до предела этой праздной жизнью…
– Неужели и Есенин, тоже был вашим слугой? – спросил я удивленно. – Такой безобидный, такой томный, такой соловушка…
– Нет, это как раз тот случай, о котором, помнишь, я тебе хотел рассказать. Сережа хоть и самоубийца, но очень востребован нашей публикой, – стал рассказывать писарь, набивая табаком свою чертову трубку. – Вот и, практически, не парится в камере. То в ресторан пригласят поклонники, то на вечер творческий, а то и какая-нибудь наша служка на ночь в постель зазовет. Фартовый он. Или, вон, цыгане. Тоже в тюряге мало бывают – играют и поют на радость нашим клиентам. Правда, сроки отсидки у них небольшие, поскольку грехи их невелики: кто за гадание к нам попал, кто лошадку чужую присвоил. Вот и Аркашка – наш официант, тоже не много в камере засиживается, в ресторане здешнем больше работает, когда и рюмашку тут пригубит, попал к нам за неумеренный обсчет клиентов. А, к примеру, Фадеев, писатель-пьяница ваш, тоже самоубийца, мало востребован: поклонников у него – раз-два, и обчелся. Вот и мучается с пистолетом своим в тюряге.
В это время цыгане отложили свои инструменты и расселись за столиком, устроив себе перекур, и тут, в относительной тишине, где-то за окном заведения, послышался крик петуха.
Баал-берита встрепенулся и встал:
– О, петушок пропел! Хоть он и не делает утра, но возвещает о его приближении. Пора нам, Коля, назад, ночь кончается, до третьих петухов надо успеть с Договором все закончить. В основном, ты получил представление о нашем хозяйстве, думаю, оно не такое уж и неприязненное для слуг наших.
– Самый последний вопрос: – сказал я, тоже поднимаясь, – отчего, многие из тех, кого вы избрали бы в слуги, отказываются от вашего предложения, то бишь, отказываются продавать души?
Лицо Баал-бериты внезапно омрачилось:
– Этого я тебе сказать пока не могу, но и обманывать не буду, поскольку ты без пяти минут наш верный слуга и товарищ. Потом узнаешь…
Баал-берита бросил на стол золотую монетку, которая тут же оказалась в кулаке официанта, поднялся, я встал за ним, и мы вышли на улицу.
У выхода из ресторанчика стоял открытый фаэтон, запряженный, прекрасных форм, вороным жеребцом, беспокойно постукивавших коваными копытами по булыжной мостовой и высекающий из нее разноцветье искр. Лохматый и бородатый кучер в цилиндре и распахнутом черном кафтане на голом теле, из-под которого курчавилась волосатая грудь, посмотрел неизвестно на кого из нас – угольного цвета глаза его косили в разные стороны – и спросил густым басом, склонившись в полупоклоне:
– Куда прикажете, господин генерал?
– К вратам! – коротко бросил писарь Ада.
Жеребец при его приближении шарахнулся в сторону, встав на дыбы и едва не опрокинув повозку. Кучер едва сдержал взбесившееся животное, охлестывая его кнутом и матерно ругаясь. Когда конь присмирел, он гаркнул нам зычным голосом:
– Пожалуйте, господа хорошие!
Он подмигнул мне своим антрацитовым глазом, и мы сели в фаэтон.
В нос ударил запах конского пота, серы и плотного сивушного перегара.
– Эх, давай родненький! – взвизгнул кучер, привстав на облучке, и со свистом хлестанул жеребца своей плетью так, что на крупе коня взметнулась полоска пара.
Конь взвился на дыбы и с диким ржанием сорвался с места, словно от преследующей его волчьей стаи. Я вдавился в кожаную спинку сиденья и едва удержался на месте, клещом вцепившись в поручни. Фаэтон не покатил, а взлетел над дорогой, и мы понеслись вперед с такой скоростью, что в моих глазах окружающий пейзаж слился в одно серое карусельное марево, застлавшее мне глаза.
Глава XIX Договор с дьяволом
Когда марево рассеялось, я оказался у себя в квартире перед зеркалом, а писарь Ада остался там, в Зазеркалье, по левую руку своего господина, а по правую – по-прежнему стояла, прекрасная до приторности, подруга повелителя Ада – Лилит. И оттуда потягивало гарью.
Люцифер снял очки – глаза его оказались совсем не бельмастыми, как тогда, в трамвае, а большими, влажными и черными, как у лани. Он прошил меня таким взглядом, который не оставлял никакого сомнения в том, что он прочел им меня всего со всеми моими мыслями. Я поразился его зрачкам: они были полны печальной черноты, которая хлынула и в мою душу, наполняя меня неизъяснимой тревогой. Безотчетно я опустился перед ним на колени и склонил голову, будто у отца на могиле.
– Встань, милейший, – бархатным и властным голосом приказал мне Люцифуг Рофокаль. – Я понял, что мы пришли к согласию. Так, сударь?
– Воистину так, – предчувствуя важность надвигающегося момента, ответил я, затрепетав всем телом.
– Хорошо, милейший, хорошо… Будем считать, что теперь ты наш товарищ и верный вассал. Ведь я уже подписал Договор!
Тут же за моей спиной оркестр грянул торжественную мелодию, что-то вроде гимна Советского Союза, а нечисть, собравшаяся вокруг, закружилась вокруг меня, пытаясь целовать куда ни поподя, пощипывая, похлопывая, весело гогоча и производя прочий неимоверный шум. Лилит благосклонно кивнула мне, все же оставаясь при этом верной своей природе истой искусительницы – похотливой зверицей из дебрей страстей полыхнули ее глаза, ожегшие мне сердце и заставившие на миг забыть о Софье, а писарь Ада показал большой палец.
Люцифер поднял руку вверх, призывая всех к тишине, и, когда все успокоились, с достоинством, которому позавидовали бы короли всего мира, произнес:
– Ратифицируем наш Договор, сударь, дружеским рукопожатием, – и с этими словами протянул мне свою холеную руку.
Но не успел я ее коснуться, как в квартиру ворвалось еще одно существо, загородившее меня от зеркала. Я узнал его: это был бабай из моего детства – огромный, заросший шерстью и терпко пахнущий незнакомым зверем. Извергая громогласный рев и сжав пудовые кулачища, он бесстрашно ринулся на Великого Люцифуга.
Троица, стоявшая в Зазеркалье, мгновенно преобразилась. Лилит, из томной красавицы, видоизменилась в отвратительное чудовище, став хищным, величиной с приличного буйвола, зверем, внешностью схожего с летучей мышью. Ее челюсти выдвинулись вперед, обнажив частые, как у акулы зубы, нежные руки превратились в львиные лапы, выпустившие из подушечек острые, кривые когти. Из ее горла исходил душераздирающий вой, синие, дергающиеся губы разбрызгивали огненную слюну, перепончатые крылья ужасающе хлопали, взметая вокруг тучи пыли.