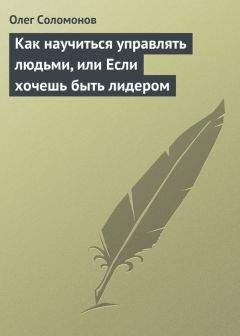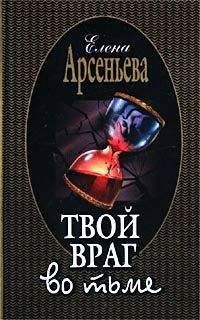Энн Райс - Черная камея
Крепко держа дрожащими руками фотоаппарат, я сделал два снимка, потом отошел немного назад и щелкнул еще пару раз. Что там получится – я не знал и мог только сделать еще два крупных плана в надежде, что найдется человек, который мне поверит.
Опустившись на колени, я дотронулся дотого, что походило на остатки человеческих волос. По коже пробежал неприятный холодок, и я снова, как сквозь сон, услышал смех, а потом послышался крик, гортанный, скорее похожий на стон. Он прозвучал снова, мучительный и страшный. Я отпрянул, не в силах заставить себя вновь приблизиться к останкам.
Я сфотографировал комнату, потом спустился на первый этаж, где сделал фото мраморного стола и золотого кресла в римском стиле, снял на пленку камин с горой полусожженных дров и пеплом, сделал крупный снимок в беспорядке сваленных на письменном столе книг.
Затем я покинул Хижину Отшельника и сфотографировал общий план. Сделал снимки и мавзолея, а также, зажав пальцем отверстие вспышки, чтобы не было отблеска от золота, крупно сфотографировал фигуры, надеясь, что они достаточно освещены.
"Жасмин, я буду вечно любить тебя", – сказал я. Спрятав камеру в верхний карман жилета, я застегнул его на молнию и решил, что вот теперь-то я докажу всему миру, что говорил правду и о самом острове, и о темном прошлом Манфреда.
Но был ли в том смысл? А вдруг это какой-то сумасшедший поэт пробирался сюда, чтобы в одиночестве посидеть в золотом кресле, немного поработать, а потом убраться к себе? А книги он забыл, потому что они ему были не нужны. Может быть, это был какой-то юноша вроде меня.
Кстати, который теперь час? Наверное, немногим больше двенадцати пополудни, а я успел так проголодаться, что меня даже подташнивало.
Но оставалось еще одно дело: оставить письма незнакомцу. Я немедленно этим занялся. Одно письмо прикрепил кнопкой к деревянной двери, другое развернул на мраморном столе, положив на уголки книги, а последнее повесил на стену возле лестницы.
Я решил, что исполнил свой долг, и теперь, чтобы справиться с растущей тошнотой, поднес сумку-холодильник к столу и опустился в римское кресло. Гладкое кожаное сиденье оказалось невероятно удобным, как всегда бывает, если опускаешься в такое кресло, и я с радостью обнаружил, что Жасмин уложила в сумку шесть банок пива. Разумеется, среди них оказалась и баночка колы, а также бутерброды и даже яблоко, пристроенное на льду. Но шесть банок пива – это же надо!
Наверное, я никогда не забуду ту минуту. Но нет смысла задерживаться на ней. Мне еще очень многое нужно рассказать. Позволь лишь добавить, что я прошептал в пустоту: "Жасмин, может ли тридцатипятилетняя женщина закрутить роман с восемнадцатилетним парнем? Встретимся за домом в шесть".
К окончанию своего короткого монолога я успел проглотить полбанки пива. Разорвав фольгу на бутербродах, таких толстых, с ветчиной, сыром и маслом – холодным, вкуснейшим маслом, – я проглотил оба в несколько приемов. Затем вмиг уничтожил яблоко, прикончил первую банку пива и следом опустошил вторую.
Я сказал себе, что этого вполне достаточно, что нужно сохранять голову ясной, но был слишком перевозбужден, а пиво, вместо того чтобы пригасить чувства, наоборот, еще больше подстегнуло меня до безумной приподнятости, и, зажав третью холодную банку в руке, я вновь отправился наверх, где уселся на пол, настолько близко, насколько мне позволила смелость, к цепям и черным останкам.
Снаружи садилось солнце, и сквозь зеленый лабиринт, облепивший почти весь дом, удавалось пробраться отдельным слабым лучам. Какой-то свет проникал через купол, и пока я, запрокинув голову, смотрел вверх, где свет мигал и перемещался, раздался тонкий, пронзительный крик.
Что это – птица? Или человек? Веки отяжелели.
Я откинулся на спину, упершись локтем в пыльные доски. Глотнул еще пива. Допил всю банку. И тут понял, что должен поспать. Тело требовало отдыха. Я просто обязан был поспать и с удовольствием растянулся на спине, чувствуя исходящее от дерева тепло.
"Ревекка, приди ко мне, расскажи, что они сделали", – произнес я, глядя вверх, на купол.
Я закрыл глаза и погрузился в сон, тело стало невесомым и подрагивало в полудреме. До меня ясно донеслись ее всхлипывания, а затем в каком-то темном месте, освещенном свечами, я разглядел хитрую рожу и услышал низкий злобный смех. Я попытался как следует разглядеть эту рожу, но не смог, а потом, случайно опустив взгляд, увидел, что превратился в женщину и что кто-то стаскивает с меня красивое темно-бордовое платье. У меня оголились груди, тело вдруг полностью обнажилось, и я закричал.
Я должен был вырваться от тех, кто меня пытал, но тут прямо у меня на глазах чья-то рука схватила заржавленный крюк – тот самый, что висел на конце цепи. Я закричал совсем по-женски. Я и был женщиной. Я превратился в Ревекку и в то же время остался Квинном. Мы с ней стали одним целым.
Никогда прежде я не испытывал такого ужаса, как в те мгновения, когда смотрел, как ко мне приближается рука с крюком, а затем я почувствовал под правой грудью нестерпимую боль, и что-то твердое и острое проткнуло мою плоть и проникло в тело. Потом я снова услышал смех, леденящий душу, безжалостный, и голос мужчины, который что-то пробормотал – кажется, он возражал, о чем-то с отвращением просил... Но смех заглушил все – и доводы, и мольбы. Ничто не могло это остановить! Я понял, что повис на крюке, вонзенном под ребро, и всем своим весом натянул цепь, прикрепленную к стене!
Я громко закричал, заверещал. Вопили оба – и мужчина, и женщина. Я был Ревеккой, беспомощной и замученной, близкой к обмороку, но так и не сумевшей отключиться, и я был Квинном, защитником Ревекки, пришедшим в ужас от содеянного и в то же время отчаянно пытающимся разглядеть злодеев, которые это сотворили. Их было двое – да, определенно двое, и я обязательно должен был узнать, не является ли один из них Манфредом. А затем я превратился только в Ревекку, она непрерывно кричала от невыносимой боли, которую приходилось терпеть, – мука продолжалась без конца, а потом вся сцена, слава богу, начала меркнуть.
"Господи, Ревекка, – услышал я собственный шепот, – теперь я знаю, что они сделали: повесили тебя на крюк, подцепив за ребро, и оставили здесь умирать".
Кто-то тряхнул меня за плечо, стараясь разбудить. Я открыл глаза.
Это была Ревекка.
"Квинн, ты пришел. Ты меня не подвел. Ты пришел", – с улыбкой произнесла она.
Я был потрясен. Она была абсолютно реальной, как тогда в доме, только теперь на ней было великолепное бордовое платье из моего сна.
"Слава богу, с тобой все в порядке! – воскликнул я. – Это ведь не могло продолжаться вечно".
"Не думай сейчас об этом, милый, – сказала она. – Теперь ты все знаешь, теперь ты понял, для чего понадобилась пятая цепь. Просто побудь со мной, мой дорогой".