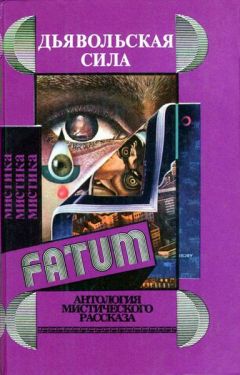Говард Лавкрафт - Ужас в музее
Часть извести я развел для побелки, а затем притащил в гостиную стремянку и хорошенько замазал кровавое пятно на потолке. Я сжег все вещи Марселины и тщательно вымыл стены, пол и мебель в ее комнате. Равно тщательно я убрался в мансардной студии и стер ведущие туда следы. И все это время я слышал завывания старой Софи в отдалении. Должно быть, сам дьявол вселился в нее, давая силы голосить без передыху много часов кряду. Но она и прежде частенько вопила на все лады, изрекая разные странные слова, — вот почему негры-рабочие не испугались и не выказали особого любопытства той ночью. Я запер дверь студии и отнес ключ в свою комнату. Потом я сжег в камине всю свою одежду, испачканную кровью. К рассвету дом выглядел вполне обычно на любой посторонний взгляд. Я не осмелился дотронуться до закрытого тканью мольберта, но намеревался сделать это позже.
Утром вернулись слуги, и я сказал, что молодежь уехала в Сент-Луис. Никто из полевых рабочих, похоже, ничего не видел и не слышал, а причитания старой Софонизбы прекратились с первым проблеском зари. В дальнейшем она молчала, как сфинкс, и ни единым словом не обмолвилась о мыслях и чувствах, владевших ею накануне вечером и ночью.
Впоследствии я всем сказал, что Дэнис, Марш и Марселина вернулись в Париж, и заручился содействием одного надежного агентства, начавшего пересылать мне оттуда письма, которые я сам же и писал поддельным почерком. Мне пришлось много хитрить и изворачиваться, чтобы объяснить ситуацию разным нашим друзьям и знакомым, и я знаю, многие втайне подозревали меня в сокрытии правды. Во время войны я получил мною же самим сфабрикованные извещения о гибели Марша и Дэниса, а позже сообщил всем, что Марселина ушла в монастырь. К счастью, Марш был сиротой, а по причине своего эксцентричного образа жизни он давно порвал всякие отношения с родней в Луизиане. Все могло бы сложиться гораздо лучше, если бы у меня достало благоразумия сжечь картину, продать плантацию и оставить всякие попытки вести дела в своем состоянии умственного и нервного истощения. Сами видите, до чего довела меня моя глупость. Начались неурожаи, рабочие стали увольняться один за другим, дом пришел в упадок — и я превратился в затворника и предмет дичайших местных сплетен. В наши дни никто и близко не подходит к Риверсайду после наступления темноты — да и в любое другое время, коли есть возможность обойти поместье стороной. Вот почему я сразу понял, что вы не из наших краев.
Почему я остаюсь здесь? Я не могу сказать вам всю правду. Она слишком тесно связана с вещами, выходящими за пределы реальности, постижимой человеческим разумом. Возможно, все сложилось бы иначе, не взгляни я на картину. Мне следовало поступить так, как велел бедный Дэнис. Я действительно собирался сжечь холст, когда неделю спустя поднялся в студию, но сперва я посмотрел на него — и это все изменило.
Нет смысла рассказывать вам, чт о я увидел. Вы можете и сами взглянуть на портрет, хотя время и сырость уже сделали свое дело. Думаю, с вами не случится ничего страшного, коли вы увидите творение Марша, но со мной вышло совсем иначе. Ибо я слишком хорошо знал, чт о все это значит.
Дэнис был прав: картина, пусть и не вполне законченная, представляет собой величайшее достижение художественного гения со времен Рембрандта. Я с первого взгляда понял: передо мной подлинный шедевр и бедняга Марш явил в нем самую суть своей декадентской философии. В живописи этот юноша был тем же, чем Бодлер был в поэзии, — а Марселина являлась ключом, отомкнувшим кладезь его гениальности.
Когда я откинул в сторону бархатную ткань, картина глубоко потрясла меня еще прежде, чем я успел охватить взглядом всю композицию в целом. Это лишь отчасти портрет, знаете ли. Марш выразился вполне буквально, когда намекнул, что рисует не просто Марселину, а нечто сокрытое в ней и проглядывающее сквозь нее.
Разумеется, она изображена там и в известном смысле задает тон всей картине, но ее фигура составляет лишь часть сложной композиции. Полностью обнаженная, если не считать жуткого черного покрова распущенных волос, она полусидит-полулежит на некоем подобии скамьи или дивана, украшенном причудливыми резными узорами, не принадлежащими ни к одному известному стилю декоративного искусства. В одной руке она держит чудовищной формы кубок, из которого изливается жидкость, чей цвет я до сих пор не в силах определить — ума не приложу, где Марш вообще раздобыл такие пигменты.
Диван с фигурой сдвинут влево и расположен на переднем плане самой странной мизансцены из всех, какие мне доводилось видеть в жизни. На ум приходит мысль, что вся мизансцена есть плод воображения женщины, но одновременно напрашивается и прямо противоположное предположение, что именно женщина является зловещим видением или галлюцинацией, порожденной фантасмагорическим пространством на заднем плане.
Не знаю, интерьер или экстерьер изображен там — изнутри или снаружи видит зритель циклопические своды, и высечены ли они из камня или же представляют собой просто уродливо разросшиеся древовидные образования. Геометрия пространства просто бредовая — беспорядочное смешение острых и тупых углов.
И боже! Эти кошмарные фантомы, парящие в вечном демоническом сумраке! Эти богопротивные твари, что таятся, крадутся в тенях и справляют ведьмовской шабаш под водительством той женщины, своей верховной жрицы! Черные косматые существа, напоминающие козлов… чудовище с крокодильей головой, тремя ногами и рядом щупалец вдоль позвоночника… плосконосые эгипаны, исполняющие отвратный танец, который был известен египетским жрецам и считался святотатственным!
Но там изображен не Египет, а нечто более древнее, чем Египет, более древнее, чем даже Атлантида, легендарный My[79] и мифическая Лемурия. Там явлен доисторический первоисточник всех земных ужасов, и символический характер живописного языка выразительно подчеркивает исконное сродство Марселины с ними. Думаю, это ужасный запретный Р'льех, построенный пришлецами из космоса, — таинственный город, о котором Марш и Дэнис частенько разговаривали в сумерках приглушенными голосами. Такое впечатление, будто все изображенное на холсте находится под огромной толщей воды, хотя его обитатели, похоже, свободно дышат.
И вот, не в силах пошевелиться, я стоял и смотрел на картину, дрожа всем телом, но потом вдруг заметил, что Марселина с коварным видом наблюдает за мной с холста своими жуткими, широко раскрытыми глазами. Нет, во мне говорил не один только суеверный страх: в своей безумной симфонии линий и цвета Маршу действительно удалось воплотить часть чудовищной жизненной силы сей женщины — и она продолжала вынашивать черные мысли, сверлить взглядом и люто ненавидеть, словно и не упокоилась вовсе под слоем негашеной извести в подвале. Но дальше стало хуже, ибо несколько кошмарных змееподобных прядей вдруг зашевелились, отделились от поверхности холста и медленно потянулись по направлению ко мне.