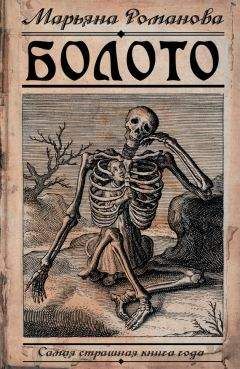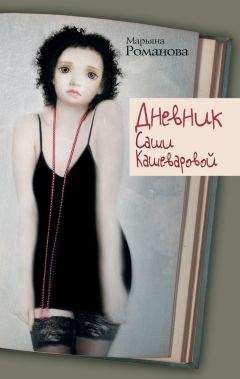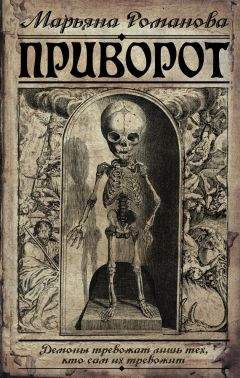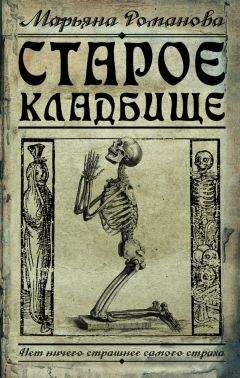Марьяна Романова - Мертвые из Верхнего Лога
Сейчас, лежа на пахнущей лавандой чужой постели, он направлял воображаемую струю ласкающего тепла к каждой частичке организма. И чувствовал, как тело постепенно тяжелеет, как будто бы окукливается. Это было самое тонкое из возможных человеческих состояний — прозрачная граница сна и бодрствования.
Марк не следил за временем, поэтому не понял, когда именно произошло это. Но в какой-то момент вдруг почувствовал, что в комнате не один. Сначала именно почувствовал, а потом начал напряженно вглядываться в темноту. И увидел совсем близко лицо, которое больше всего на свете хотел увидеть, уже почти не надеясь, что в самом деле увидит.
Вера.
Та, которую он много лет считал сбежавшей от мещанских реалий ветреницей. Та, внезапное волнение за которую и привело его в Верхний Лог.
Марк хотел вскочить с кровати, но почему-то не мог, как будто ему впрыснули парализующий яд. Он неотрывно смотрел на некогда любимое лицо и с удивлением отмечал, как сильно Вера изменилась за несколько прошедших лет, словно год у нее шел за пять. Ее некогда острый подбородок округлился, немного оплыли щеки, а бледность стала нездоровой, с синеватым оттенком, как если бы она уже много лет не видела солнца. Глаза ее, живые, теплые, искристые, теперь потускнели и смотрели на мир с серьезной печалью — такие глаза бывают у святых на иконах. Губы ее были сухими и серыми. Но самым странным было то, что, несмотря на чудовищную метаморфозу, Вера продолжала оставаться красивой.
— Вера… — Марк собрал все силы, чтобы едва слышно выдохнуть ее имя. Говорить было трудно, язык весил десять тонн.
Она не ответила, только покачала головой.
Вдруг Марк заметил, что Вера явилась не одна. У ног ее стояли дети — три девочки и два мальчика. Похоже, погодки — младшему едва исполнился год, он еще некрепко держался на толстеньких ножках, ему приходилось цепляться за широкую льняную юбку матери. Марк не заметил их сразу, потому что дети вели себя не так, как должно вести себя малышам. Они были тихие, как привидения, бледные, с темными полукружьями под глазами. И смотрели так, словно им ведома запредельная мудрость. Выделялась лишь одна девочка — самая старшая, темноволосая, худенькая, — загорелая, с живым и жестким взглядом, похожая на обычного ребенка более, чем остальные.
Наконец Марку удалось сесть на кровати. Он протянул руки к Вере, но пальцы его сомкнулись вокруг пустого пространства.
Морок рассеялся.
Марк находился в комнате один.
Сон испарился, как лужа на полуденном солнце. Сердце трепыхалось где-то в области щитовидной железы, а в висках стучало, как будто внутри его черепной коробки был заперт некто, кому очень хотелось вырваться на волю.
За окном начало светать. На синеющем небе еще ясно виднелись звезды, по темной траве стелился туман.
Марк оделся и вышел на крыльцо, стараясь ступать мягко, чтобы не разбудить спящую в соседней комнате Ангелину. Какой глупый и страшный сон. Какая глупая и страшная жизнь. Веры, должно быть, давно нет на свете, а он все надеется, не отдавая себе отчета. Да, да, надеется — в противном случае сознание не явило бы ему столь яркий образ.
И все же… Что-то тут не так. Разве умершие кому-нибудь снятся постаревшими, изменившимися? Нет, они всегда снятся такими, какими ты их знал. Почему же тогда Вера?..
Додумать Марк не успел, потому что глаз его различил едва заметное движение у калитки. Он удивленно вскинул голову — кому понадобилось бродить по деревне на рассвете?
Там стояла женщина — молодая и темноволосая. Сначала Марк решил, что она пьяна, — незнакомка не могла удержать голову прямо, и та почти лежала на вздернутом плече. Ее взгляд — исподлобья, рассеянный и мутный — производил жуткое впечатление. А лицо было белее луны, губы походили на высохшую глину — неприятно коричневые, темные, сухие, потрескавшиеся.
«Я сплю, — забормотал Марк, ощущая, как спина покрывается холодной пленкой липкого пота. — Ее не существует. Мне все грезится, также как пригрезились Вера и странные тихие дети. Их нет, нет, нет…»
Но темноволосая женщина существовала. Ее ступни тяжело шаркали по траве, Марк явственно слышал этот звук. И запах у нее был — от странной незнакомки пахло черноземом, сладкой до тошноты густой землей. И она шла прямо к нему, медленно, но уверенно.
* * *Виктория откинулась в подушки, мягкие, как объятия любящего, и потянулась, расправляя позвонки. Ей было хорошо и легко, как после бани. Кончиками пальцев она прикоснулась к коже на своем предплечье, которая почему-то казалась особенно нежной и мягкой. Вика чувствовала себя влюбленной и счастливой — впервые в жизни. Ее последние дни были похожи на падение Алисы в кроличью нору, на волшебную сказку, хоть в сказки, будучи атеистом и скептиком, никогда не верила. Не верила она ни в подгибающиеся от чужого пристального взгляда колени, ни в сердце, в котором при воспоминании о чьем-то лице словно колокол гудит, печально и басовито, ни в почти наркотическое состояние концентрированной смешливой радости, когда хочется взлететь — над тротуарами и крышами, над влажной землей и пыльными деревьями, — взлететь и, расправив крылья, умчаться к радуге. О подобном она иногда читала в дамских романах и слышала от влюбленных подруг, но каждый раз ей хотелось сначала демонически расхохотаться, а потом прочитать лекцию о том, что любовь — атавизм, который культивируют те, кто не способен получить от «правильных» мужчин главное: деньги.
Всю жизнь Виктория презирала баб, которые смотрели на мужчин снизу вверх и произносили их имена с придыханием. Прекрасная и храбрая воительница, привыкшая к лишениям, риску и адреналиновым атакам, она считала влюбляющихся женщин существами низшего порядка. Уютные плюшевые домашние кошечки, под кожей которых бьется такое глупое и восприимчивое сердце, — разве они могли быть на равных с нею, опытным воином? Всю жизнь Вика закаляла свой характер — чего стоило одно только малокалорийное питание при склонности к полноте, которой в качестве злой насмешки наградила ее природа. Случалось, даже плакала от голода. Да, да, в двадцать первом веке, в сытой европейской столице она сидела на итальянском бархатном покрывале, обняв колени и слегка раскачиваясь, кулаком размазывала слезы по щекам и мечтала об одном — чтобы минуты текли быстрее. А в животе была такая пустота, что хотелось выть.
Мужчина же, ради которого она так мучилась, принимал ее бесплотность как должное. Сам он был сибирским медведем, косая сажень в плечах, шансон в автомагнитоле, ледяная водочка к обеду, и ему нравились девушки, похожие на эльфов и нимф, — чтобы бледная полупрозрачная кожа, чтобы нежные ключицы и выпирающие позвонки. Ему казалось трогательным, что Виктория отказывается от благ скатерти-самобранки, которую он перед ней щедро развертывал, и предпочитает смаковать чуть спрыснутый уксусным соусом лист темного базилика. Если бы он знал, что худенькая красавица на самом деле убить его готова от ненависти и, каждый раз повторяя нежное «люблю», мысленно добавляет: «Сдохни!»