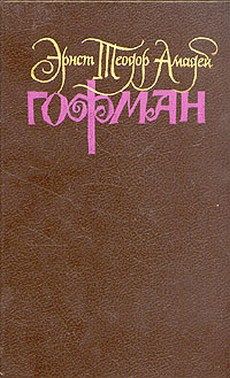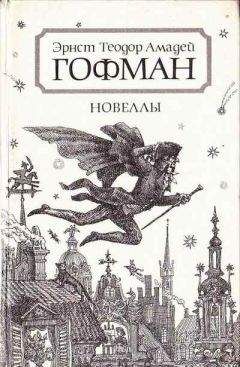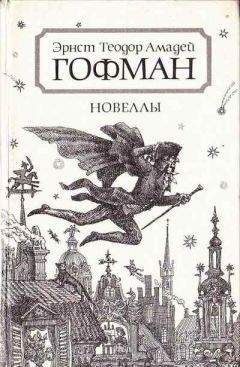Эрнст Гофман - Эликсир дьявола
Я раскрыл книгу, и первое, что поразило мой взор, были фрески Святой Липы, иногда бегло очерченные, а иногда представленные в цветных копиях. Впрочем, это не вызвало у меня ни малейшего удивления, и нельзя сказать, что мне не терпелось увидеть, как разгадывается загадка. Нет, какая же это была загадка! Мне уже давно было ведомо, что таит книга живописца. На последних страницах его письменами, едва различимыми, хотя и расцвеченными, были обозначены мои мечтанья и чаянья, очерченные, правда, решительнее и тверже, чем отважился бы я.
Примечание от издателя
Не пересказывая того, что прочитал он в книге живописца, брат Медардус далее повествует, как он простился с приором, посвященным в его тайну, и с дружелюбной братией, как он завершил свое паломничество в Рим и везде, в Соборе Святого Петра, в храмах Святого Себастиана и Лаврентия, Святого Иоанна Латеранского, у Санта Мария Маджоре и так далее, перед всеми алтарями падал на колени и молился, как слухи о нем дошли до самого папы, как молва начала приписывать ему святость, выдворив его тем самым из Рима, так как он чувствовал себя теперь лишь кающимся грешником и ничем более. Мы же ― я говорю о себе и о тебе, любезный читатель, ― недостаточно знакомы с мечтаниями и чаяньями брата Медардуса и, опустив письмена живописца, едва ли сумеем сочетать и свести к единой канве запутанные, разрозненные нити, составляющие историю Медардуса. Чтобы ты лучше понял меня, я прибегну к такому уподоблению: перед нами множество разноцветных лучей, но не хватает фокуса. Рукопись почившего капуцина была завернута в старый, пожелтевший пергамент, испещренный мельчайшими буквами, едва доступными прочтению, и мое любопытство было затронуто именно этим весьма неординарным почерком. Письмена поистине пришлось расшифровывать, и как же я был удивлен, когда уразумел: передо мной история, запечатленная в книге живописца, о чем свидетельствует Медардус. Выдержанная в стиле, почти летописном, история изложена на итальянском языке, изобилующем архаизмами и афоризмами. Тон книги настолько своеобразен, что по-немецки звучит он глуше и беднее, как стекло с трещиной, однако связность и цельность повествования потребовали перевода, каковой и выполнен мною с одним огорчительным ограничением. Княжеский род, из которого происходит пресловутый Франческо, не пресекся; в Италии, равно как и в Германии, здравствуют еще потомки князя, чья резиденция приютила в свое время Медардуса. Согласись, подлинные имена здесь недопустимы, а тот, кто дал тебе в руки сию книгу, любезный читатель, менее всех способен подбирать и подтасовывать вымышленные имена, когда имеются настоящие, да еще такие звучные и романтические, как в данном случае. Означенный издатель с наилучшими намерениями именовал князя князем, барона бароном и так далее, избегая собственных имен, однако, поскольку старый живописец прослеживает запутаннейшие, деликатнейшие фамильные отношения, не представляется возможным впредь опускать имена, так как повествованию тогда грозила бы невразумительность и пришлось бы безыскусную хоральную летописность оснащать и приукрашивать затейливыми вычурами комментариев и ссылок.
Итак, я подчеркиваю мою функцию издателя и прошу тебя, любезный читатель, прежде чем ты начнешь читать дальше, принять к сведению следующее. Камилло, князь фон П., родоначальник фамилии, из которой происходит Франческо, отец Медардуса. Теодор, князь фон В., ― отец князя Александра фон В.; у последнего при дворе подвизался Медардус. Его брат Альберт, князь фон В., сочетался браком с итальянской принцессой Гиацинтой Б. Фамилия барона Ф. известна в горах, и следует только добавить, что баронесса фон Ф. происходила из Италии; она дочь графа Пьетро С., а тот был сыном графа Филиппо С. Все остальное ты уразумеешь, любезный читатель, если только соблаговолишь усвоить эти немногие имена и инициалы. А теперь в качестве продолжения.
Пергамент старого живописца
…И вот Генуэзская республика, страдая от жестокого натиска алжирских корсаров, призвала славного героя-флотоводца Камилло, князя фон П., дабы он выставил против обнаглевших пиратов четыре галиона с людьми и оружием. Камилло, алчущий бранной славы, написал своему старшему сыну Франческо, повелев ему возвратиться и править княжеством в отсутствие отца. Франческо, приверженный художеству, был учеником Леонардо да Винчи, и дух искусства настолько овладел им, что вытеснил все прочие помыслы. Не было на земле для него ничего выше искусства, и он видел только пеструю тщету во всех остальных людских начинаниях и предприятиях. Он не смог расстаться со своим учителем, тогда уже весьма пожилым, и потому написал отцу, что предпочитает скипетру кисть и не намерен покидать Леонардо. Старый, гордый князь Камилло весьма разгневался; он обругал своего сына негодящим дурачком и послал за ним верных служителей. Но когда Франческо проявил стойкость в своем отказе, утверждая к тому же, что князя во всем блеске трона затмевает, по его мнению, хороший художник, а величайшие военные подвиги ― лишь кровопролитная игра земных сил, тогда как искусство ― чистейшее проявление сокровенного духа, движущего художником, герой-флотоводец Камилло окончательно разъярился и поклялся наложить на Франческо вечную опалу, а престол завещал своему младшему сыну Зенобио. Франческо охотно согласился с таким решением, более того, документально подтвердил, что отрекается от княжеского престола в пользу своего младшего брата, подкрепив документ торжественными заверениями, и когда старый князь Камилло был убит в жестоком кровавом бою с алжирцами, к власти пришел Зенобио, а Франческо, сложив с себя княжеский титул и звание, окончательно предался художеству и довольствовался годичным содержанием, которое высылал ему правящий брат, а средства эти позволяли ему влачить жизнь чуть ли не в бедности. От природы Франческо был горд, своенравен, и только старый Леонардо умел укрощать его дикую вспыльчивость, а когда Франческо сложил с себя княжеский титул, он стал верным, преданным сыном старого художника. Не одно великое произведение Леонардо завершал при его сотрудничестве, и ученик, воспаряя к высотам учителя, сим прославился: многие церкви и монастыри заказывали ему алтарные иконы. Старый Леонардо с любовью поддерживал его своим искусством и мудростью, пока не умер в глубокой старости. Тогда в молодом Франческо снова взыграли тщеславие и своенравие, подобно пламени, слишком долго изнывавшему под спудом. Его самомнение внушало ему, что он величайший художник своего времени, и, соединяя изощренность своего искусства со своей родовитостью, объявил он себя князем художников. О старом Леонардо он теперь отзывался пренебрежительно и, отступив от бесхитростно набожного письма, выработал новый стиль, помпезной композицией и кричащим блеском ослепляющий толпу, а ее несдержанные восторги, в свою очередь, усугубляли его кичливость и заносчивость. Случилось так, что Франческо окружили буйные, разнузданные юноши, а он при своей страсти к предводительству и первенству стал заядлым мореплавателем среди неистовых волн разврата. Обольщенные язычеством и его культом лукавой сомнительной видимости, юноши во главе с Франческо составили тайную секту, кощунственно глумящуюся над христианством; они воскрешали эллинскую обрядность и устраивали вакханалии с наглыми блудницами. Среди них были живописцы, но преобладали ваятели, помешанные на античном искусстве, издевательски отвергающие все, что новые художники, воспламененные святой Христовой верой, обрели и осуществили во славу Его. В нечистом пылу писал Франческо одну за другой картины, навеянные вымышленным языческим баснословием. Никто, кроме него, не умел так осязаемо изобразить изобильную, влекущую, сладострастную женственность, перенимая оттенки телесности у живых натурщиц, а формы и обаяние у античных кумиров. Он уже не присматривался в церквах и монастырях к возвышенным видениям верующих старых мастеров и не пытался усвоить их с благоговением истинного художника, нет, он прилежно писал языческих лжебогов. Но один кумир владел им всецело, то была знаменитая Венера, неизменно царившая в его помыслах. Однажды Зенобио не выслал старшему брату денег вовремя, и Франческо при своем расточительном буйстве, поглощавшем все его заработки, но ставшем уже его второй натурой, начал терпеть горькую нужду. Тогда он вспомнил, что давно уже получил один заказ: монастырь капуцинов предлагал ему за крупное вознаграждение написать икону святой Розалии, но все, относящееся к христианству, так претило ему, что он не давал согласия, а теперь вознамерился поскорее выполнить заказ, чтобы поправить свои дела. Замысел Франческо заключался в том, чтобы обнаженная святая на его картине ликом и формами не отличалась от пресловутой Венеры. Эскиз превзошел его собственные ожидания, и молодые святотатцы превозносили блестящую мысль Франческо посмеяться над монашеским благочестием и выставить у них в церкви языческий кумир под видом христианской святыни. Но когда Франческо перешел от эскиза к работе над самой картиной, ― не чудо ли? ― искусство опровергло умственно-чувственный замысел, и дух, более могущественный, восторжествовал над низким лукавым духом, порабощавшим художника. Ангельский лик из Царства Небесного просиял сквозь мглистый сумрак, и Франческо как бы оробел перед Божьим судом, не посягнул на святую, не осмелился довершить ее лика, а ее наготу благоговейно облекли изящными складками темно-багряная риза и лазурно-голубая мантия. Капуцины писали художнику лишь о святой Розалии, не обязывая его писать или не писать ее примечательное житие, и потому эскиз ограничивался ее образом в средоточии картины, но теперь, движимый вдохновением, он запечатлел другие фигуры, предивно расположившиеся вокруг нее, чтобы засвидетельствовать ее мученичество. Франческо всецело жил своей картиной; картина оказалась могучим духом, который заключил художника в свои крепкие объятия и вознес его над мерзостной житейской трясиной, в которой он барахтался дотоле. Только лик святой Розалии ускользал от его кисти; он изнывал от бессилия, и эта адская мука острыми шипами пронзала ему душу. Он уже не помышлял о Венере, своем прежнем идоле, но ему все представлялся старый мастер Леонардо, взиравший на него с глубоким состраданием и говоривший с богобоязненной скорбью: «Ах, я бы пособил тебе, но мне нельзя; тебе подобает сперва отринуть греховные вожделения и в глубоком смиренном сокрушении молить о заступничестве святую, на которую покусилось твое кощунство».