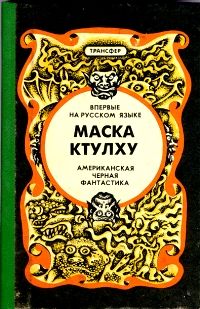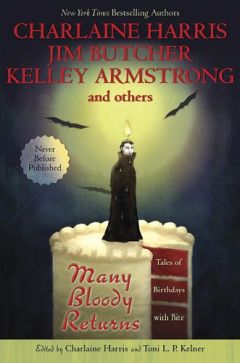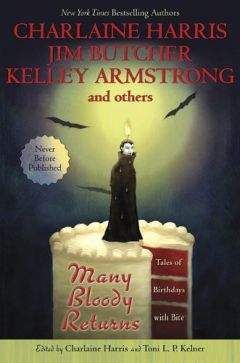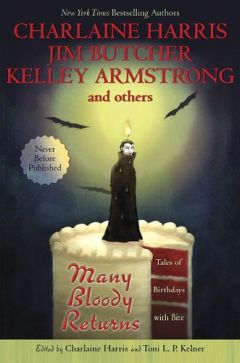Август Дерлет - Маска Ктулху
В миг этого омерзительного просветления, которое, должно быть, снизошло и на Элдона, нечеловеческая какофония за дверью стала невыносимо пронзительной, демонические ветры грохотали и ревели; голова моя закружилась, я зажал уши ладонями… Этот миг я еще помнил — и более ничего.
Я пришел в себя и увидел склонившегося надо мной Элдона. Я по-прежнему лежал в верхнем коридоре на полу перед входом в комнаты моего дяди, а светлые, лихорадочно блестящие глаза брата тревожно вглядывались в мои.
— Ты был в обмороке, — прошептал он. — Я тоже.
Я вздрогнул, испугавшись его голоса, казавшегося таким громким, хотя Элдон говорил шепотом.
Все было тихо. Ни единый звук не тревожил спокойствия Сэндвин-хауса. В дальнем конце коридора лунный свет лежал на полу белым прямоугольником, мистически озаряя непроглядную тьму вокруг. Брат бросил взгляд на дверь, и я поднялся и двинулся к ней без колебаний, хоть и страшась того, что мы можем за нею найти.
Дверь по-прежнему была заперта; в конце концов мы вдвоем выломали ее. Элдон чиркнул спичкой, чтобы хоть как-то осветить комнату.
Не знаю, что рассчитывал увидеть он, но то, что мы обнаружили, оказалось выше самых диких моих опасений. Как Элдон и говорил, все окна были заделаны так плотно, что внутрь не проникал ни единый лучик света, а на подоконниках была разложена странная коллекция пятиконечных камней. Но оставалась еще одна точка входа, о которой дядя, по всей видимости, просто не знал: в чердачном окне, хоть и надежно запертом, в стекле имелась крошечная трещина. Путь гостей моего дяди угадывался безошибочно: влажный след вел в его комнаты от люка рядом с этим чердачным окном. Сами комнаты были в ужасном состоянии: ни одна вещь не осталась целой, если не считать кресла, в котором дядя обычно сидел. Действительно, похоже было, что бумаги, мебель, шторы — все с равной злобой разорвал некий свирепый вихрь.
Но наше внимание было приковано лишь к дядиному креслу, и то, что мы в нем увидели, казалось еще более жутким сейчас, когда рассеялся ужас, что доселе окутывал Сэндвин-хаус. След вел от чердачного окошка и люка прямо к дядиному креслу и обратно; то была странная, бесформенная цепочка отпечатков — некоторые напоминали волнистые змеиные изгибы, некоторые были оставлены перепончатыми лапами, причем последние вели только в одну сторону — от кресла, где любил сидеть дядя, наружу, к той крохотной трещине в стекле чердачного окна. Судя по этим следам, что-то проникло внутрь и потом снова ушло наружу — вместе с чем-то еще. Невероятно, ужасно было даже думать об этом: что же здесь происходило, пока мы лежали за дверью без чувств, что исторгло из груди моего дяди этот жуткий вой, который мы слышали перед тем, как лишиться сознания?
Следов дяди не было никаких — кроме страшных остатков того, что существовало вместо него, а не его самого. В кресле, в его любимом кресле лежала его одежда. Ее не смяли и не швырнули в кресло небрежно, нет — она кошмарно, жизнеподобно хранила положение тела человека, сидевшего там, лишь немного опав: от шейного платка до башмаков это было жестокой, страшной насмешкой над человеком. Вся одежда была пустой — лишь оболочка, какой-то чудовищной силой, превосходившей наше понимание, сформированная в чучело носившего ее прежде человека, который, по всем видимым признакам, был вытянут или высосан из нее некой кошмарной тварью, призвавшей себе в помощь этот дьявольский ветер, что носился по комнатам. То был знак Ллойгора, который ступает по ветрам среди звездных пространств, — ужасного Ллойгора, против которого у моего дяди не нашлось никакого оружия.
Дом в долине[51]
(Перевод М. Немцова)
1
Я, Джефферсон Бейтс, даю настоящие показания под присягой в полном осознании того, что, каковы бы ни были обстоятельства, жить мне осталось недолго. Я делаю это ради тех, кто переживет меня. К тому же настоящим я попытаюсь снять с себя обвинения, столь несправедливо мне предъявленные. Великий, хотя и малоизвестный американский писатель, работающий в традициях готики, однажды написал, что «высшее милосердие, явленное нашему миру, заключается в неспособности человеческого разума понять свою собственную природу»[52], однако у меня было довольно времени для напряженных раздумий, и теперь я достиг в мыслях своих такой упорядоченности, кою счел бы невозможной всего лишь год назад.
Ибо как раз события последнего года и стали причиной моего «расстройства». Я называю случившееся со мной этим словом, ибо пока не уверен, какое еще имя ему дать. Если бы мне нужно было определить точный день, когда все началось, я бы, скорее всего, назвал тот, когда мне в Бостон позвонил Брент Николсон и сказал, что снял для меня как раз такой уединенный и красивый дом, который я искал, чтобы поработать над давно задуманными картинами. Дом этот стоял в укромной долине рядом с широким ручьем, не очень далеко от морского побережья, по соседству со старыми массачусетскими поселениями Аркхемом и Данвичем, которые знакомы каждому местному художнику своими замечательной формы мансардными крышами — приятными глазу, но странным образом выводящими наблюдателя из душевного равновесия.
Сказать по правде, я сомневался. В Аркхеме, Данвиче или Кингстоне на день-другой всегда останавливались собратья-художники, а мне хотелось укрыться именно от них. Но в конце концов Николсон меня уговорил, и через неделю я уже был на месте. Дом оказался большим и старым — похоже, той же постройки, что и многие дома в Аркхеме; он укрывался в распадке с плодородной, по всем признакам, почвой, но следов земледелия я не заметил. Дом тесно обступали высокие сосны, а с одной стороны огибал чистый ручей.
Несмотря на всю свою привлекательность при взгляде издалека, вблизи дом выглядел совершенно иначе. Во-первых, прежние хозяева выкрасили его в черный цвет. Во-вторых, он вообще имел какой-то недобрый и грозный вид. Окна без штор мрачно глядели на свет. По цоколю все здание опоясывала узкая веранда, до отказа забитая перевязанными бечевой мешками, стульями с полусгнившей обивкой, комодами, столами и огромным количеством всевозможной старомодной домашней утвари. Все это весьма напоминало баррикаду, специально выстроенную, чтобы удержать что-то внутри или защититься от чего-то снаружи. Было хорошо заметно, что эта баррикада простояла так довольно долго: на всех предметах сказались несколько лет пребывания на открытом воздухе. Причина возведения этой баррикады была неясна даже самому агенту, с которым я списался, но из-за нее дом выглядел обитаемым, хотя никаких признаков жизни в нем не наблюдалось и все говорило о том, что там много лет вообще никто не жил.