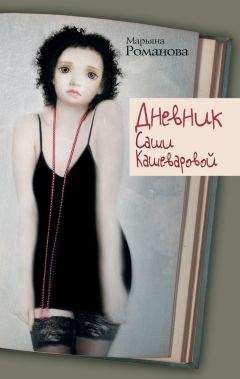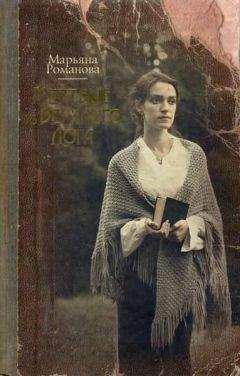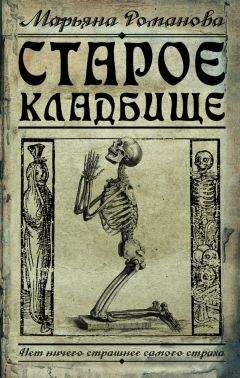Марьяна Романова - Приворот
И вот наступил день, когда родился у нее малыш. Хороший малыш, крепкий, мальчик. На ангела похож – родился со светлыми кудрями и глазами цвета летнего неба. Да еще и взгляд такой, не младенческий, а как будто понимает что-то. В семье ему обрадовались – ну да, девка весь род опозорила, соседи уже не в спину, а в лицо смеются, но зато парень-то каков получился! Алешей его назвали.
И хоть вся семья вокруг маленького Алеши хороводы водила, хоть и всем хотелось повозиться с ним, но если кто, кроме матери, брал его на руки, начинал он орать так, что уши закладывало. Никого, кроме нее, не подпускал к себе. Даже над кроваткой склониться не давал. Сначала все пытались как-то перебороть, а потом вой этот так надоел, что лишний раз и подходить остерегались. Победил их Алеша маленький.
Мать же его до родов ходила вся налитая и румяная, а потом осунулась и побелела, как будто была при смерти. С каждым днем будто бы все слабее и слабее становилась. Ее уже и не дергал никто, чтобы по дому помогла.
В первые недели после рождения Алешеньки она еще вставала, а потом и это перестала – целый день валялась на кровати, с сыном на руках. Однажды пошла в сени – воды из кадки набрать, да там, обессиленная, и свалилась. И никто не мог понять, что с ней происходит. Вроде бы, и роды легкими были, и питалась она хорошо – все самое лучшее ей на тарелке несли. Даже младшие сестрички, жалея, лучшие куски ей отдавали. И хоть бы что.
А однажды пришла в их дом бабка, которая в деревне ведуньей слыла, – ее немного побаивались даже, хотя, вроде бы, никто не помнил, чтобы она кому-то зло сделала. Просто чувствовалась в ней какая-то сила, несмотря на то, что ростом бабка была с двенадцатилетнего мальчика, и глаза ее давно потухли, а все лицо иссохло и потемнело, как забытая в золе картофелина. Пришла она, от предложенного чая отказалась наотрез. И сразу заявила:
– Девку-то вашу вы проглядели, неужто не жалко вам ее?
Отец возмутился: вам-то, мол, какое дело. С мужем или без, все равно родная кровь, не гнать же в лес ее, в самом деле.
– Да я не про мужа, – как-то нехорошо усмехнулась старуха. – Неужели вы сами до сих пор не поняли ничего?
– А что мы должны понять? – насупился отец девицы.
– Сколько Алеше вашему стукнуло? Месяца, поди, два уже?
– Четвертый пошел. И что тебе с того?
– Недолго ей осталось, вот чего. Высосет ее до дна и за вас примется, упыреныш. А как ходить научится, так и всю деревню в страхе держать будет.
– Да что ты несешь, ведьма старая! И не стыдно тебе. Катись откудова пришла! – И дед Алешенькин поднялся из-за стола, давая понять, что за своих он горой и разговор окончен.
Но соседка не тронулась с места:
– Скажи, а девка твоя чахнет, небось? Бледная стала, с кровати не встает целыми днями? Ест хорошо, да не в коня корм?
– Ну и дальше что?
– А то! Мой тебе совет – посмотри, как она в следующий раз кормить малого будет. Не молоко он пьет. Кровь он ее пьет. Пока маленький – много не выпьет, так ведь растет с каждым днем, упыреныш.
– Пошла вон! – вышел из себя мужик, мрачной горой нависнув над злоязыкой бабкой. – Тебя сюда не звали. И чтобы я тебя и близко к дому нашему не видел, а то на вилы подыму, чертовка!
Старушка не испугалась. Даже сгорбленная спина не мешала ей держаться с таким достоинством, словно она была урожденной аристократкой, а не прожила всю жизнь в глуши среди лесов да полей.
– Я-то уйду, – вздохнула она, – а ты мои слова запомни. С мертвецом связалась девка твоя. На свидания к нему весь год бегала, а вы и не заметили. Хлебушек на кладбище носила, цветочки. Он и окреп, и вышел к ней, и стал ее любить. Только вот любить они не умеют, мертвые… И упыреныш ее – ручки к ней тянет, а у самого на уме только крови напиться, окрепнуть чуть-чуть.
В ту ночь плохо спалось отцу девицы. Мрачные мысли он гнал прочь, все повторял: «Дурная старая карга, дура темная!», да только что-то такое было в глазах старухи, что мешало ему вот так просто отмахнуться от ее суеверий. Проворочавшись до рассвета, он все-таки решил заглянуть в комнату, где жили молодая мать с Алешенькой. На цыпочках подкрался, украдкой заглянул.
Дочь его сидела на кровати, такая исхудавшая и бледненькая, белее ночной сорочки. Волосы, которые некогда походили на копну подсушенной на солнце пшеницы, стали тусклыми и редкими. Она склонилась над Алешей, который прильнул к ее груди, его круглые щеки работали, пил он жадно, словно боялся, что в любой момент отымут. Затаив дыхание, отец наблюдал – вроде бы, такая умилительная картина, мать кормит малыша, и все же было в этом что-то пугающее. А может, померещилось просто – после страшных соседкиных слов.
И вдруг Алеша заворочался, повел носом, как животное, почуявшее чужака, отлип от материнской груди, повернул голову и посмотрел прямо на деда, и взгляд его был серьезный и нечеловеческий какой-то, словно не три месяца от роду ему было, а сотня лет. Злое бессилие было в этом взгляде, и мужчине вдруг показалось, что если бы Алеша мог, то бросился бы вперед и вцепился ему в горло. Так смотрел бы старый цепной пес, у которого отобрали миску с требухой, – с ледяной яростью, с пониманием, что тяжелая цепь все равно не позволит немедленно отомстить обидчику, и надеждой, что когда-нибудь либо цепь порвется, либо отнявший пищу подойдет ближе, чем следовало бы. А на губах Алеши – пухлых младенческих губах – запеклась кровь.
Перекрестившись, мужчина ахнул, и только тогда дочь его заметила. Медленно подняла бескровное лицо, и отец в очередной раз отметил, как постарела она за эти месяцы, как заострились ее скулы, как запали глаза.
– Что тебе? – слабо отозвалась она. – Не видишь, Алеша есть не может, когда ты рядом.
– Доченька, – отец бросился к ней, – дай посмотреть! А почему он такой… Господи, что творится-то… Почему у него рот-то в крови?
– Да губу прикусил, – прошелестела дочь. – Шел бы ты уже… Алешенька голодный, а при тебе он нервничает, есть не будет.
С тех пор отец внимательнее присматривался к тому, как Алешу кормят. И младенец тоже будто бы присматривался к нему – словно почуял в нем врага. Иногда лежит в своей колыбели, спеленутый туго, а сам глазами следит за дедом. Куда дед пойдет, туда и Алеша смотрит.
Девице же даже ведро возле кровати поставили – не было у нее сил до дощатого туалета во дворе добраться.
Алеше исполнилось одиннадцать месяцев, когда он наконец достаточно окреп для того, чтобы пойти самостоятельно. Быстро это получилось. Он был намного более крепким, чем его ровесники, хрупкие послевоенные дети. Коренастый, румяный, ножки-столбики, которыми он бодро перебирал по комнате, придерживаясь за стены. Кажется, он вообще ни разу не упал.