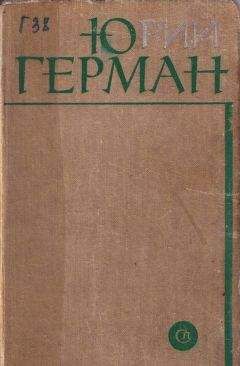Из бездны - Шендеров Герман
По вечерам он не раз и не два подходил к двери, приникал ухом, слушая хлюпанье, возню и Надькины крики, представлял, как врывается в комнату и стаскивает с любимой женщины чудовищного альфа-самца, но тут же перед глазами вставало то самое лицо, что дети не смели рисовать на асфальте. И он садился обратно на колченогий табурет, делал телевизор погромче, чтобы заглушить звуки, зажимал уши, курил одну за одной и ждал, пока это закончится; пока Надька, наконец, забеременеет – уже не от него. До боли в глазах Гендос пялился на смазливую телеведущую, на архаичную рекламу дурацкого магазина «Панда», на телепомехи, на настроечную таблицу. Лишь бы не оборачиваться к окну, где, подвешенное за нитку, расчекрыженное, болталось в пакетике его, Гендоса, нерожденное дитя.
Йога для мертвых
(в соавторстве с Владимиром Чубуковым)
Вот и Павлуша Холодцов! На мобильник мне звонил, а потом я из окна видел, как он перебегает через двор к подъезду.
Павлуша умеет вилять ногами так, что кажется, будто идет по-деловому торопливо и вместе с тем бежит этаким паучком. Сверху глянешь на него из окна – и невольно захочется раздавить, как гадкое насекомое. Павлуша, он такой: немного гадина, но полезен – всегда зловещие новости на губах у него шипят, всегда он сует нос в темные и смрадные щели, всегда в курсе всего самого мрачного, что творится на задворках мира.
Вот и сейчас – что-то выкопал, поделиться спешит.
По телефону Павлуша ничего толком не рассказал, сообщил только, что есть новость – «просто огонь», так выразился, – и при встрече он все выложит, а заодно и книжку мою вернет.
Вошел ко мне, глаза поблескивают, кончик языка мелькает меж губ, пальцы беспокойно шевелятся.
За руку я с ним не здоровался. Брезговал. Павлушина ладонь мягкая, влажная и словно бескостная. Такую ладонь подержишь в своей, а потом захочешь отмыться, будто вовсе и не руки коснулся.
Павлуша, впрочем, не навязывался: не протянули ему руку – и ладно. Юркнул в гостиную, пробежал блудливо-алчным взглядом по книжным корешкам в шкафу и книгу мне вернул: сборник стихов Эмиля Верхарна, 1935 года издания.
– Книга просто бомбическая! – восторженно прокомментировал Павлуша. – Стал я сравнивать переводы с теми, что в «Библиотеке всемирной литературы», и обомлел: как же они здесь хороши! Вот «Часы», к примеру, взять. В переводе Брюсова, который везде и всюду, последние две строчки: «Вы сдавили мой страх циркулем ваших безжалостных стрелок». А здесь перевод Шенгели: «Их стрелки циркулем сжимают страх, мой страх безумный». И, черт возьми, это же лучше Брюсова!
– Так что за новость-то?
Павлуша расплылся в загадочной улыбке, выдержал паузу и выложил:
– Самосатский! Он из подполья вышел.
– Когда?
Новость была удивительная.
– Ну, вообще-то не вышел еще. Во вторник должен на публике появиться. На Суворовской его выставка открывается, а в субботу он там с лекцией выступает.
Андрей Львович Самосатский – главная знаменитость нашего города, художник с мировым именем. Живописец Ада, Русский Босх, Картограф Бездны – так его называли. Лет одиннадцать назад он вдруг пропал, дом свой продал, оборвал все контакты и спрятался в таком углу, что отыскать его не могли года три-четыре, а когда наконец отыскали, он никого не пожелал видеть.
И вот – надо же! – устраивает выставку, собирается появиться на публике, да еще лекция…
– Только представь, о чем лекция! – продолжал Павлуша. – Тема, тема-то какая! Называется «Йога для мертвых». Билеты на лекцию со вторника начнут продавать. Но я уже достал. Если тебе…
– Конечно, нужен! – перебил я нетерпеливо.
Павлуша полез во внутренний карман куртки за билетом с таким масленым видом, словно совал руку во что-то интимное.
Зал был битком. Я пришел почти за час до начала, поэтому сумел занять стул поближе к лекционному столику.
Картины, развешенные по стенам, были старыми. Не все из них подлинники, больше половины – отменного качества лазерные копии работ, проданных в частные коллекции.
Его картины всегда поражали меня своей бесчеловечной потусторонней мрачностью, в которой странным образом не чувствовалось ни унылого пессимизма, ни мизантропии. Они дышали одухотворенным запредельным ужасом. Перед подобным все виды обыденного мрака – та же мизантропия, тот же пессимизм, всякая там жестокость, кровожадность, злоба, ненависть, – казались детскими игрушками, играть в которые уже просто стыдно.
Инфернальные сюрреалистические кошмары, покрывавшие холсты и доски Самосатского, были в каком-то высшем смысле бесстрастны, вознесены над земной грязью и похотью. Если он, скажем, изображал, как причудливые потусторонние чудовища насилуют мужчин и женщин, то в этой загробной порнографии невозможно было уловить даже оттенка сладострастия. Во всем, что касалось человеческой плоти – будь то наслаждения либо пытки, – у Самосатского веяло ангельской бесплотностью и отрешенностью.
Художник, сильно постаревший, с изрезанной шрамами лысиной, вышел к столику, прокашлялся и заговорил:
– Здравствуйте. Я Андрей Самосатский, художник. Но постарайтесь забыть, что я художник, потому что сегодня я хочу поговорить не об искусстве. Тему лекции вы знаете – «Йога для мертвых». Это будет вводная лекция в новый вид йоги, которую, уж простите меня, старика, я назвал так кричаще. Ни к индуизму, ни к буддизму эта йога отношения не имеет. В сущности, это и не йога вовсе, а психосоматическая методика. Никакие приемы из традиционных практик тут не заимствованы. Индуистская и буддистская антропология, всякие там чакры, гуны, скандхи, дхармы, асавы – все это принципиально проигнорировано. Так что йогой данная методика называется лишь по весьма отдаленной аналогии. Так вот, для начала следует кое-что объяснить…
Выйдя после лекции на улицу, я пытался понять: что это сейчас было? К чему клонил Самосатский в своих запутанных рассуждениях? Впрочем, лекция вводная, так что, возможно, потом все прояснится.
Но вторая лекция, назначенная на следующую субботу, не состоялась. И в дальнейшем лекций не было. Причину никто не объявил. Самосатский опять затворился ото всех.
Но прошло чуть больше полугода, и по городу, тут и там, появились расклеенные объявления:
«Йога для мертвых. Набирается группа учеников, желающих изучать и практиковать новый вид йоги, не имеющий аналогов в истории духовных практик. Предпочтение отдается смертельно больным и склонным к суициду».
Фамилия Самосатского не упоминалась, зато был указан адрес: улица Луначарского, 112.
Я позвонил Павлуше и спросил, не знает ли он адрес Самосатского. Тот ответил, что знает улицу, а номер дома ему неведом, улица же – Луначарского; ее последние дома подходят под западный склон старого кладбища, которое на Солнечной, вот где-то там, в конце улицы, где совсем уж дремучая глухомань, старик и живет.
Что ж, похоже, объявление было дано не кем иным, как Самосатским.
После той мутной вводной лекции я все думал: к чему же он клонил? Про саму методику йоги на лекции ни слова не прозвучало. Старик начал с того, что надо, мол, уточнить некоторые базовые понятия, без которых в его системе не разобраться, и вывалил на слушателей целый поток неудобоваримых философских и психологических рассуждений.
Лектор из него получился никакой, дар слова у художника отсутствовал напрочь, слушать его было нелегко. Видимо, он сам это понял после вводной лекции, потому и решил с теорией покончить. Но у меня создалось впечатление, что он придумал нечто совершенно исключительное. Мне до подкожного зуда стало любопытно: что ж оно все-таки такое, эта йога для мертвых? И зачем ему живые ученики? Но если йога для мертвецов, то им-то она для чего? В голове мелькали жутковатые картинки: как бездыханные трупы усаживают в позу «лотоса», как укладывают их в позу «собаки», как растягивают им сухожилия на импровизированных дыбах; под руководством Самосатского живые ученики терпеливо и методично прислуживали беспомощным мертвецам. Были и другие картинки, совсем уж нелепые и непристойные.