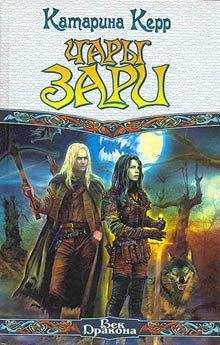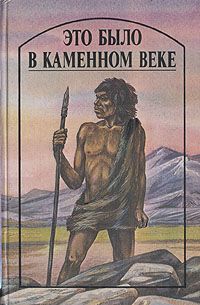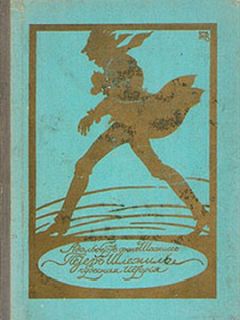Том Холланд - Спящий в песках
Точно такой же удивленный вид был и у Иосифа, ибо никогда прежде его друг и повелитель не вел себя подобным образом Он повернулся к женщинам, чтобы успокоить их, и тут, когда его взгляд упал на их животы, ему вспомнился сон фараона, в котором Туа смывала кровь долгой череды царей.
И вновь он глубоко задумался о том, чего же именно так страшится его повелитель.
Наконец пришло время, когда Туа должна была разрешиться от бремени. На протяжении нескольких дней, как заметил Иосиф, царь Тутмос выглядел почти счастливым, а когда стало известно, что супруга его советника родила второго сына, велел доставить младенца к себе. Радостный Иосиф, уже вознесший хвалу Всевышнему и нарекший мальчика Эйэ, выполнил повеление.
Некоторое время фараон вглядывался в ребенка, а потом, подняв глаза на Иосифа, спросил:
– Как, по-твоему, кому из твоих отпрысков – этому, его старшему брату или тому, кто еще не родился, – суждено очистить кровь моего рода от проклятия?
– Я не в силах ответить на этот вопрос, о царь, – с поклоном промолвил Иосиф, – ибо есть лишь один Всеведущий, для коего не существует тайн и чье око прозревает все сущее.
– Воистину праведны твои слова, – согласился Тутмос, присматриваясь к ребенку. – Но все же мне хотелось бы точнее узнать, чего следует ждать от будущего. Ибо не далее как через несколько недель должен родиться и мой ребенок.
Царь ничего больше не добавил, и Иосиф немало размышлял о смысле сказанного повелителем.
Куда сильнее, однако, его встревожило то, что в последовавшие за их беседой недели плоть на костях царя вновь начала сохнуть. В то время как его конечности поразила болезненная худоба, живот и бедра, напротив, заметно пополнели. Иосифа терзала тревога, ибо он никогда не слышал о столь странном недуге, не был знаком с его природой и не мог предложить своему господину какой-либо способ исцеления.
Впрочем, фараон и не обращался к нему за помощью или советом: как и в прошлый раз, он удалился в храм Амона и оставался в его тайном святилище, даже когда у царицы, его сестры и супруги, начались схватки. Лишь перед самым появлением ребенка на свет царь покинул свое прибежище. От Иосифа не укрылось, что телесное здоровье Тутмоса восстановилось полностью, однако душевное, напротив, едва ли не ухудшилось. К стонам и крикам царицы фараон прислушивался с таким видом, словно страшился того, кому предстояло явиться из ее чрева. Наконец крики стихли, а несколько мгновений спустя из покоев, где рожала царица, вышла унылая, подавленная Туа, которая все последние часы провела у постели своей госпожи и ухаживала за ней с великой любовью и преданностью. Лицо Туа было в слезах.
Утерши глаза платком, она низко склонилась перед фараоном и, запинаясь, произнесла:
– О могущественнейший из владык, твое дитя... Твое дитя...
Туа запнулась и умолкла, не в силах вымолвить страшные слова.
Фараон сжал кулаки.
– Говори, – потребовал он. – Что с моим ребенком?
Туа сглотнула, потом покачала головой и, глубоко вздохнув, ответила:
– О владыка, твое дитя родилось мертвым.
Странно, но на какой-то миг Иосифу показалось, будто лицо царя просияло от облегчения.
– Кто это был? – спросил царь.
– Девочка. – Туа подавила рвавшееся наружу рыдание. – Такая прелестная малышка...
Она всхлипнула.
Но на лице фараона – теперь в этом уже не могло быть сомнений – действительно читалось неимоверное облегчение. Правда, Тутмос попытался скрыть свои истинные чувства и поспешно удалился в покои царицы, где провел немало времени в попытках утешить опечаленную супругу. Однако с того времени фараон явно воспрянул духом и в течение нескольких месяцев оставался именно таким, каким Иосиф знал и любил его прежде.
Но когда стало казаться, будто все худшее позади и душевное равновесие вернулось к фараону навсегда, Туа снова объявила, что находится в тягости, и сразу после этого Тутмоса словно подменили. Он впал в уныние, а на Иосифа смотрел так, словно был перед ним в чем-то виноват.
– Царь постоянно размышлял о своем сне и его истолковании, данном Иосифом, причем Иосифу казалось, что чем чаще задумывается об этом царь, тем сильнее одолевает его странный, коварный недуг. Ну а когда о своей беременности объявила и царица, Тут-мос впал в мрачное уныние, граничившее с черным отчаянием и с трудом подавляемой яростью.
Недуг с того момента овладевал им все сильнее, так что казалось, будто его неумолимую смертоносную хватку не разжать уже никогда. И не только телом страдал царь: в речах и поступках он стал крайне непоследовательным и непредсказуемым. Порой его одолевали приступы безумного гнева, подобные тому, когда, как помнилось Иосифу, он едва не ударил свою беременную жену. Иосиф пребывал в тревоге, ибо опасался, что Тутмос уже не в силах справляться со своей яростью: царицу часто видели в слезах и даже со следами побоев. Потом царь, как это уже вошло у него в обычай, удалился в храм Амона, но, похоже, на сей раз даже древняя магия не смогла принести ему облегчение. Фараон перестал появляться на людях, не встречался даже с Иосифом, а по столице поползли слухи, что на западном берегу Нила, в долине, где находят последнее прибежище усопшие цари, готовят последнее пристанище и для Тутмоса. Даже Иосиф, ближайший советник, "тень фараона" и его соправитель, не мог опровергнуть эти слухи, ибо был лишен возможности лицезреть владыку.
По прошествии месяца с того дня, как он в последний раз встречался с царем, Иосифу доложили, что у Туа начались схватки.
Помня о том, чем в недавнем прошлом завершилось разрешение от бремени великой царицы, Иосиф пребывал в сильном волнении, тем паче что в последнее время его посещали мрачные сновидения, которые вполне можно было счесть предзнаменованием недоброго. Из покоев его жены доносились слабые стоны, ближе к ночи превратившиеся в отчаянные крики боли. В конце концов роженица зашлась в нечеловеческом вопле, а потом все смолкло, сменившись тишиной...
Иосиф, слышавший теперь шорох ветра в пальмовых листьях и отдаленные крики пролетавших над Нилом гусей, с трудом мог поверить, что столь тихие и мирные звуки и впрямь могут быть слышны в подобный момент. Кожа его горела, словно в лихорадке. Иосиф недоумевал, что было тому причиной, и боялся дать себе ответ на этот вопрос. Конечно, уходивший день выдался знойным, но отнюдь не жара стала виновницей его нынешнего странного состояния.
Потом подошла служанка и шепнула ему что-то на ухо, и он проследовал за ней в комнату жены. Опустившись на колени возле Туа, Иосиф поцеловал ее в губы – так, словно их сомкнул только сон и они могут открыться для ответного поцелуя, – и долго орошал руки жены горькими слезами. Наконец он встал и, оставив покойную на ее ложе, вышел в коридор, где прислужница молча подала ему сверток. Едва он взял его, внутри что-то зашевелилось. Сердце Иосифа дрогнуло, и, несмотря на то что глаза его все еще оставались затуманенными соленой влагой, он улыбнулся.