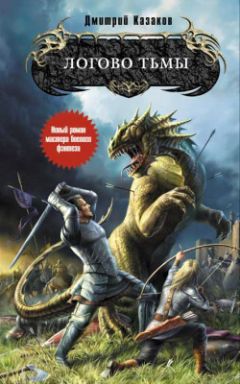Дин Кунц - Логово
Когда он вспомнил совершенно необъяснимый и нечеловеческий припадок гнева, парализовавший его, то замер от страха. Попытался вспомнить, на что было направлено острие этого гнева, каким диким поступком насилия все это завершилось, но память молчала. Вроде бы он сразу же потерял сознание, словно эта неестественная злоба, захлестнувшая его, отключила мозг, как короткое замыкание, сжигая предохранители, отключает электрическую сеть.
Потерял сознание или потерял рассудок? Эти два понятия разделяет существенное, роковое отличие. Потеряв сознание, он мог бы вею ночь проваляться в кровати, ослабевший, недвижимый, как камень на дне моря. Но если он потерял рассудок, то, не соображая, что творит, в состоянии психоза мог заварить такую кашу, что потом и вовек не расхлебать.
Вдруг ему почудилось, что Линдзи грозит смертельная опасность.
Сердце застучало в груди, как молот по наковальне. Хатч рывком сел в постели и посмотрел на нее. В полумраке рассвета он не мог как следует разглядеть жену и видел только неясные очертания ее тела, покрытого простыней.
Хатч потянулся было к выключателю у изголовья, но отдернул руку. Он боялся того, что мог увидеть.
"Но я никогда не смог бы причинить боль Линдзи, никогда", – в отчаянии подумал он.
И тут же вспомнил, что на какое-то мгновение прошлой ночью вышел из себя. Вспыхнувшая в нем ненависть к Куперу, казалось, растворила внутри него потайную дверь, впустив в его душу какое-то страшное чудовище из потустороннего мира.
Дрожа всем телом, он все же решился щелкнуть выключателем. При свете лампы увидел, что Линдзи, как и прежде, мирно спала и чему-то даже улыбалась во сне.
На душе у него сразу стало легче, он выключил свет и вспомнил о Регине. И снова взревел мотор тревоги.
Но ведь это нелепо. Он с таким же успехом мог причинить боль Регине, как и Линдзи. Она же совершенно беззащитный ребенок.
Но дрожь не унималась, и мысли тоже.
Стараясь не потревожить жену, Хатч выскользнул из постели, снял со спинки кресла свой халат, натянул его на себя и на цыпочках вышел из комнаты.
Босой прошел в зал, через застекленный потолок которого пробивался утренний рассвет, позволивший ему, не зажигая дополнительного освещения, направиться в сторону спальни Регины. Сначала он шел быстро, потом заметно сбавил ход, словно ужас прицепил к его ногам стопудовые гири.
Хатч мысленно представил себе разрисованную цветами кровать из красного дерева, залитую кровью, смятые и в беспорядке разбросанные простыни с проступившими на них бурыми пятнами. Почему-то вдруг показалось, что из исковерканного лица девочки будут торчать осколки бутылочного стекла. Страшная эта подробность лишний раз убедила его, что в миг беспамятства он действительно совершил нечто неслыханно ужасное.
Когда Хатч чуть приоткрыл дверь и заглянул в комнату, то увидел, что девочка, как и Линдзи, мирно спит в своей постели в той же позе, в какой они видели ее, когда вместе с женой заглядывали к ней перед тем, как самим отправиться спать. Никаких следов крови. Никаких осколков битого стекла.
Судорожно сглотнув, он тихо прикрыл дверь, возвратился в зал и остановился прямо под застекленным потолком, с которого струился тусклый предутренний свет. Подняв глаза, он уставился на просвечивающее через матовое стекло неопределенного цвета небо, словно там искал объяснение всему случившемуся.
Но объяснение не находилось. Тревога и сомнения так и не покинули его.
Хорошо еще, что Линдзи и Регина были в порядке и их не коснулись события прошлой ночи.
На память ему вдруг пришел старинный фильм о вампирах, в котором умудренный опытом священник предупреждал молодую женщину, что несмертные могут войти к ней в дом, только если она сама пригласит их, и что они хитры, коварны и льстивы и могут заставить даже посвященных в их тайну послать им это смертельное приглашение.
Между Хатчем и тем психопатом, убившим молодую блондинку по имени Лиза, несомненно существует какая-то связь. Не сумев подавить в себе злость на Купера, он усилил эту связь. Злость его и была тем ключом, который открывал дверь потустороннему присутствию. Когда он позволял себе злиться, он посылал своему тайному двойнику приглашение, подобно тому, о котором в фильме священник предупреждал молодую женщину. Хатч и сам не мог объяснить себе, откуда это было ему известно, но голову бы дал на отсечение, что дело обстояло именно так. И ничего большего не желал на свете, как выяснить, что же это все-таки такое.
Он чувствовал себя совсем потерянным.
Маленьким, слабым и испуганным.
И несмотря на то, что этой ночью с Линдзи и Региной ничего ужасного не произошло, Хатч никогда так сильно не ощущал, что обеим им грозит смертельная опасность. И день ото дня она все увеличивается. И час от часу становится неизбежнее.
3
Перед самым рассветом тринадцатого апреля Вассаго помылся на открытом воздухе водой из бутылок и жидким мылом. Когда забрезжили первые лучи нового дня, он уже был надежно укрыт в самом глубоком месте своего логова. Лежа на матраце и глядя вверх в шахту лифта, он наслаждался "орео", запивая их теплой содовой, затем достал из целлофановых пакетов пару "Легких завтраков".
Убийство действовало на него умиротворяюще. Огромное внутреннее напряжение мгновенно снималось первым же наносимым им смертельным ударом. Но гораздо важнее было то, что каждое убийство он рассматривал как бунт против всего, что считалось священным: против заповедей, законов, кодексов и раздражающих своей манерностью и вымученностью правил хорошего тона, используемых людьми для поддержания выдумки, что жизнь – это бесценный дар, что она наделена глубоким смыслом. Жизнь – дешевка и бессмыслица. Значимы только сиюминутные ощущения и быстрое удовлетворение всех желаний, что по-настоящему могли понять только сильные и истинно свободные. После каждого убийства Вассаго ощущал себя свободным как ветер и могущественнее любой стальной машины.
До одного особого, восхитительного вечера на двенадцатом году его жизни он был одним из порабощенной массы, руководствовавшейся в жизни законами так называемого цивилизованного мира, хотя лично ему они казались бессмысленными. Он притворялся, что любит мать, отца, сестру и огромное количество родственников, хотя питал к ним не больше чувств, чем к случайно встреченным на улице прохожим. В детстве, когда уже достаточно подрос, чтобы задумываться о таких вещах, он считал, что с ним не все в порядке, что в его характере отсутствует какое-то очень важное свойство. Прислушиваясь к себе в те моменты, когда притворно уверял кого-нибудь в своей любви, используя тактику и стратегию лжепривязанности и бесстыдной лести, он поражался, насколько убедительным казался для других, так как сам без труда улавливал в своем голосе нотки неискренности, в жестах и выражении лица – чистейший обман, а в каждой своей любящей улыбке, которой одаривал близкого человека, видел ее двуличие и фальшь. Но в один прекрасный день неожиданно для себя он услышал фальшь и в их голосах и увидел ее в их лицах и понял, что и они никогда никого не любили и не питали тех возвышенных чувств, к которым должен стремиться каждый цивилизованный человек, – самоотверженности, смелости, набожности, скромности и всего остального из этого идиотского катехизиса. И они вели двуличную игру. Позже он пришел к убеждению, что большинство из них, даже среди взрослых, не обладают его проницательностью и не сознают, что другие люди полностью подобны им самим. Каждый человек считал себя единственным в своем роде, полагая, что обделен какой-то существенной чертой в характере и потому вынужден так вести игру, чтобы никто не заметил этого, иначе он будет обнаружен и отвергнут обществом, как недочеловек. Бог попытался создать мир, основанный на любви, но потерпел явную неудачу и в своих заповедях призвал людей делать вид, что они обладают теми достоинствами, которыми он не сумел их наделить. Когда эта ошеломляющая мысль пришла Вассаго в голову, он сделал первый шаг к освобождению. Затем одним летним вечером, когда ему было двенадцать лет, до него наконец дошло: чтобы стать действительно свободным, абсолютно свободным, он должен действовать сообразно своему пониманию жизни, то есть вести жизнь, полностью отличную от той, которую ведет людское стадо, ставя превыше всего и удовлетворяя прежде всего свои собственные потребности. Единственным его желанием должно стать желание властвовать над другими, ибо этой властью его наделила осведомленность об истинном положении вещей в мире. В тот вечер он понял, что умение убивать и не чувствовать при этом никаких угрызений совести есть самая высшая форма власти, а облекать эту власть в плоть и кровь и есть самое высшее из всех наслаждений…