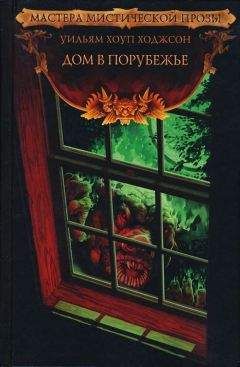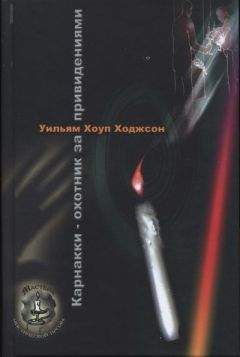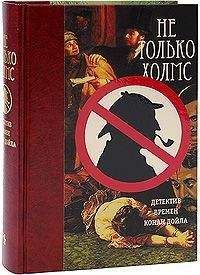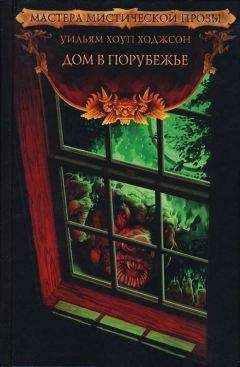Уильям Ходжсон - Ночная Земля
Тварь обхватила меня за бедра, и я уже решил, что она разорвет меня, но у зверочеловека были иные намерения — он немедленно попытался стиснуть меня; тогда я впился руками в волосатую глотку, объемистую, как шея быка. Я сдавливал закованными в металл руками горло чудовища, причиняя ему великие мучения, однако так и не сумел пресечь его жизнь. Должно быть, целую минуту я противостоял этой твари лишь силой своего тела… с тем же успехом можно было бы пытаться голыми руками убить коня. Тошнотворное дыхание зверочеловека било мне в нос, и я старался отворачивать голову в сторону; если бы Четверорукий придвинулся ко мне ближе, я мог умереть от ужаса — ведь крохотная пасть его явно была предназначена не для того, чтобы съедать свою жертву, но чтобы выпивать из нее жизненные соки. Я намеревался изрубить эту мерзость в куски, если бы только удалось дотянуться до Дискоса. Дергаясь во все стороны, я успел определить, что зверочеловек пользовался своими нижними лапами лишь для того, чтобы держать добычу, а удушал ее верхними. За всю эту минуту мой противник даже не попробовал оторвать мои руки от своего горла, но только дергал руками, которые я переломил.
Наконец он отчаянно сдавил мое тело, даже панцирь мой заскрипел; если бы он лопнул, меня ждала бы верная смерть. Долго, корчась в объятиях, я отталкивал от себя чудовищную рожу, сдавливая волосатую глотку.
Тварь соображала медленно, но наконец решила резко отпрыгнуть и отпустила меня, не позволив извлечь Дискос. Однако я был готов к новому натиску, потому что проводил много времени в боевых упражнениях и успел добиться в них совершенства. Выскользнув из хватки зверочеловека, попытавшегося поймать меня за голову, я нанес удар бронированным кулаком, — с великой силой и мастерством. Немедленно отступив в сторону, я обманул чудовище и вновь ударил его, на этот раз в шею — с холодной жестокостью. Однако зверочеловек снова бросился на меня. Я выскользнул из огромных ладоней, вложив всю силу рук, ног и тела в последний удар; словно под молотом уродина рухнула наземь.
Получив мгновенную передышку, я сорвал Дискос с пояса. Желтый зверочеловек взревел, поднялся на ноги и пошатнулся, ворча. По всему было видно, что он ошарашен ударом. Неразборчивые звуки, мерзкие привизгивания складывались в неведомые слова. Четверорукий вновь бросился на меня, и я без промедления снес его голову с плеч. Жуткое чудовище повалилось на землю и стихло.
На какое-то мгновение напряжение боя, изнеможение и боль ушибов овладели мной, не позволяя сойти с места. Однако же тревога не покидала мое сердце, и я, превозмогая слабость, бросился к лежавшей Наани.
Брошенная на землю, она съежилась, прижав ладони к своему нежному горлу. На миг мне показалось, что жизнь оставила ее тело, ведь Наани лежала так тихо.
Отняв ее руки от горла, я увидел на нем царапины, однако опасных для жизни ран не заметил. Стараясь смирить ходуном ходившие руки, я снял панцирные перчатки, чтобы ощупать ее горло.
Определив меру полученных Моей Единственной повреждений, я все равно не смог унять эту дрожь: не только потому, что испытывал безмерные опасения за нее, но и потому, что только что завершил смертельный бой.
Чуть отдышавшись, я приложил ухо к сердцу Девы. Оно билось, тут жуткий страх во мгновение оставил меня.
Сорвав ранец со спины, я сотворил воды и плеснул еще шипевшую жидкость на ее лицо и горло, и тело Девы затрепетало.
Я хлопотал и хлопотал над нею, и, наконец, Наани вернулась к жизни. Впрочем, сознание не спешило возвращаться к ней, но потом она все вспомнила и задрожала.
Я объяснил ей, что Четверорукий убит и более не повредит ей; тогда Наани заплакала, потому что пережила ужасное потрясение, побывав в лапах столь мерзкой твари. Однако я обнял ее, и она сразу успокоилась.
Потом я опустил Наани на землю — так, чтобы она не видела трупа желтого зверочеловека. Спрятав Дискос от ее глаз, я надел ранец и взял Деву на руки, держа Дискос возле нее. Но она принялась возражать, настаивая на том, что должна идти, ведь я так устал после битвы, но я все же понес ее, а когда поставил на ноги, оказалось, что колени ее дрожат, так что Наани не имела сил не только чтобы идти, но даже чтобы стоять. Тогда я снова взял ее на руки — с поцелуем.
Слабость заставила Наани совсем притихнуть. По пути я сперва говорил ей ласковые слова, но потом обратил внимание на окрестности, потому что у меня на руках Дева успокоилась и почувствовала себя лучше. Я внимательно оглядывался, чтобы нас не застала врасплох никакая тварь, затаившаяся в кустах, которые образовывали здесь довольно густые заросли. Наконец я поднялся на самый гребень и ощутил прилив радости. Передо мной оказались огни, пылавшие возле входа в ущелье. Мы вышли в точности туда, куда хотели, и теперь нам предстояло пройти всего две или три мили, а я опасался промахнуться на целую дюжину миль.
Я сказал об этом Деве, и она разделила мою радость. А потом, напрягая все силы, мы заторопились вперед, так что уже через час вступили в ущелье. Я ощущал огромное утомление, потому что нам пришлось идти тридцать шесть часов — с великими трудами, испытав на пути ужасные события. Повернувшись спиной к ущелью, я сам сочувственным тоном предложил Наани навсегда проститься с родным краем. Она попросила опустить ее на землю, и я выполнил просьбу моей Девы, осторожно поддерживая Наани под руку, пока она безмолвно вглядывалась во мрак.
Наконец едва слышным голосом она спросила меня, где искать Малую Пирамиду. И вновь отдалась воспоминаниям. По прошествии некоторого времени я заметил, что Наани никак не может проститься со всем, что прежде составляло весь ее мир, с погибшими друзьями.
И я молчал, глубоко сочувствуя Деве… Истинно, до самого конца вечности не найдется более человека, который увидит сей жуткий край, где моя Дева провела свою молодость, где осталась могила ее Матери, где погиб Отец и все, кто был близок ей. Смерть до сих пор гуляла по этой земле, забирая уцелевших.
Потом Наани затрепетала в моих руках, и я понял, что она старается сдержать слезы; и все же они хлынули — ведь я был рядом и обнимал ее, и ей некого было стыдиться.
Наконец я шевельнулся, желая показать, что пора начинать спуск, но Наани остановила меня на мгновение, чтобы попрощаться в последний раз, а потом, горько всхлипывая, повернулась спиной к своей родине вместе со мной. Скорбные воспоминания переполняли душу моей Девы, и память о пережитых ужасах и страшном одиночестве не оставляла ее. Поэтому я немедленно взял ее на руки, она спрятала заплаканное лицо на моей груди, и, не скрывая нежности, я целый час или более нес ее вниз. Наконец Наани притихла, и я понял, что она уснула в моих руках.