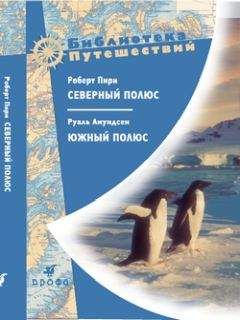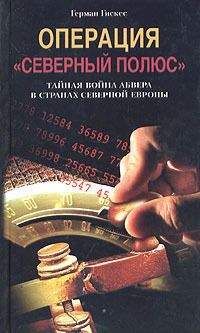Сьюзан О'Киф - Чудовище Франкенштейна
Несмотря на то что я описал свои мучения на бумаге и теперь, несколько часов спустя, пишу снова, насилие все еще равномерно пульсирует в моем горячем сердце, даже в самых тоненьких жилках. В насилии я обретал себя, становился собственным творцом. Кто я теперь — без костного хруста и кровавых рек?
Чудовище убило бы ее. И хотя на холодную голову я понимаю, что эта ее броня гордости — чистое безумие, в глубине души я знаю, что любой мужчина ушел бы на моем месте. Раньше, по крайней мере, я был одним из двух. Теперь же — ни тем ни другим.
5 января
Я не писал уже несколько дней.
Уже несколько дней не мыслил словами.
Много дней, прошитых лишь нитью молчания.
Если Дугалл Мак-Грегор и заметил, что мы не разговариваем друг с другом, он ничего не сказал, когда я разыскал его в Орфире и попросил отвезти нас с проклятых Оркнейских островов обратно в Джон о’Гроатс. Мак-Грегор заполнял тишину, вновь плетя небылицы о жизни на море. Высадились мы поздно, и он пригласил нас к себе переночевать, чтобы наутро двинуться к следующей цели.
— У бабули места побольше, — сказал он, — но за неделю, пока вас не было, ее не сгубили аж два раза, так что я не рискну снова отправить вас к ней.
Я молча кивнул, решив той же ночью сбежать, пока он и Лили будут спать. Молчание довело меня до предела, и я понимал, что должен избавиться от Лили, если не хочу лишиться рассудка. Если образ ее отца станет вновь упрекать меня, я прогоню его во тьму, заявив, что Мак-Грегор — славный малый: лучшего защитника для нее не сыскать.
Поужинав рыбной похлебкой, к которой Лили даже не притронулась (к слову, похлебка эта подсказала Мак-Грегору новую порцию баек о морских приключениях), я поднялся и сказал, что собираюсь прогуляться по пляжу. Лили опередила меня у двери, словно догадавшись о моих намерениях и решив, что я хочу бросить ее прямо сейчас.
Я двинулся быстрым шагом. Если не удастся уйти, хотя бы вымотаю ее, чтобы крепче спала ночью и не услышала, как я сбегу. Вечер располагал к неторопливой прогулке — приятный, безветренный и необычайно теплый. Закат окрасил небо темнеющим багрянцем, затем море и песок полностью слились, и лишь изредка слабо поблескивали пенные гребни.
— Постой! — наконец крикнула Лили.
Увязнув в песке, она упала позади. Я остановился и оглянулся. Огни дома Мак-Грегора скрылись из виду.
— Подай мне руку, Виктор, — сказала она. — Я устала и хочу обратно. Ты целый день не обращал на меня внимания. — Лили говорила так непринужденно, словно мы общались сегодня вечером и в предыдущие дни. — Одно дело — не обращать на меня внимания, когда мы одни, и совсем другое — на людях. Не мешало бы тебе проявлять ко мне уважение, которого я заслуживаю. Когда мой дом отстроят и я туда вернусь, я могу подыскать для тебя работу — например, в саду, ведь ты прекрасно копаешь.
Увязнув в рыхлом песке, Лили с трудом встала на ноги и отряхнула штаны. Она рассвирепела из-за того, что упала, или оттого, что я не желал разыгрывать из себя ее слугу? Не важно. Сегодня ночью все кончится.
— Руку, Виктор. — Лили в нетерпении махнула. — Ты должен отвести меня назад. У меня же нет кошачьих глаз, как у тебя!
— Что за вздор. Хотя, возможно, ты права. Или я просто смотрю глазами человека, долго привыкавшего к темноте.
— Ты смотришь человеческими глазами? Как бы не так! — запальчиво сказала она. — Это значит, что ты не видишь ни зги!
Не попавшись на ее удочку, я прошел мимо и направился к дому Мак-Грегора.
— Ты сам-то понимаешь, Виктор? — Она повысила голос. — Ты требовал у меня ответа. А теперь я спрашиваю: «Ты понимаешь?» Разумеется нет! — Она вцепилась в меня. — Ты слеп, как любой мужчина: в ту ночь ослеп от похоти, а сейчас — от глупости.
— Слеп?
— Я предлагаю тебе работу в самом роскошном особняке Нортумберленда, а твой молчаливый отказ исполнен презрения: «Как я могу теперь ей служить, раз я видел, как она содрогалась от наслаждения?» В ту ночь ты увидел лишь то, что хотел. Но не заметил того, чего не хотел заметить.
— Ты права, Лили, я ничего не понимаю, — мягко сказал я и взял ее за руку, уговаривая вернуться. Мне оставалось провести с ней считаные часы, и это помогло набраться терпения.
— Бедный Виктор! В слепоте своей ты не заметил, что я уже не девственница. Ты не увидел, что не было крови — признака непорочности. — Ухмылка сменилась гримасой отвращения. — Я не видела крови уже полгода.
— Полгода?
— Я беременна, Виктор! Я была уже на третьем месяце, когда ты появился в нашем имении. Думаешь, иначе бы я позволила прикоснуться к себе? Ты не заметил моей ненависти — точно так же, как не замечал растущего живота. — Она набросилась на меня. — Неужели я неясно выражалась? Разве я не твердила сотню раз, что червь присосался ко мне, как пиявка?
— Червь… Я думал, живот распух от болезни. Считал, что ты умираешь.
— Это и есть болезнь, и я действительно погибаю. Я знаю, что дети превращают женщину в ничтожество! Я буду как наша певчая пташка, Кэсси Берк. — Она прижала ладони к вискам. — Я пила мерзкие зелья Бидди Джозефс. Отправилась за тобой в изнурительное странствие, скакала на лошади, голодала сама, чтобы уморить его. Той ночью в избе я нарочно дразнила тебя, чтобы ты меня ударил. Но в последнюю минуту ты отвернулся, и отродье осталось во мне, — горестно продолжала она. — Я надеялась, что дрэксемский врач выскоблит его, но он отказался. Оно совсем крохотное — даже ты ни о чем не догадался. Одна надежда на то, что тварь родится мертвой. Но даже если выживет, с такой матерью она не протянет и пары минут.
Я сел на землю: ноги подкосились.
— Кто отец? Уж наверняка не тот, за кого ты вышла.
— Мои родители думали, что это твой ребенок, что ты появился в Таркенвилле задолго до того, как показался им на глаза.
— Мой? — Я прыснул со смеху.
— Потому-то отец и хотел тебя убить: ты изнасиловал его дочь. Не важно, с ее согласия или нет. И даже его симпатия к тебе ничего не могла изменить.
— Как родители выведали, что ты беременна?
— Я разжаловала служанку, едва поняла, что ей не придется, как раньше, отстирывать белье во время моего ежемесячного недомогания. Мне чудилось, будто я толстею ежеминутно, и я забрала у прислуги свои старые платья с высокой талией. Они давно вышли из моды, еще когда я их отдавала, но зато были свободные и не нуждались в корсете. Я стала носить повсюду шаль — надела ее даже на бал-маскарад. Все лишь затем, чтобы отвлечь внимание от раздувшегося живота. Но я, наоборот, только привлекла к себе внимание непривычным поведением. Лили Уинтерборн одевается без прислуги? Стирает собственное белье? Носит старомодные платья? Мы выдаем себя сами. В конечном счете, даже враги не нужны.