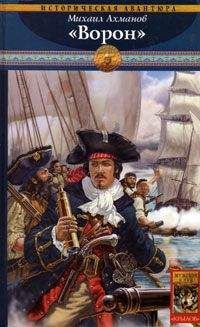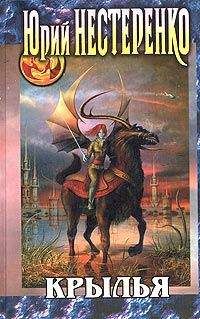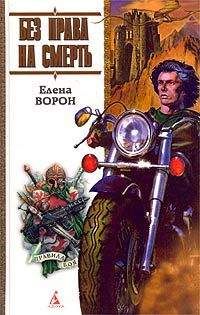Юрий Бурносов - Лифт
– Что же, может, и выйдем. — Ильницкий оглянулся на меня.
Я молча ковылял, стараясь думать только о том, что это вон там за кустик, сколько до него шагов, нельзя ли его погрызть, пососать… Кустик оказался обычным, нам такие попадались уже несколько раз: несколько уродливо изломанных веточек, торчащих из песка, без листьев, без капельки сока. Недавно я видел жука. Вернее, маленькую многоногую тварь с жесткими крыльями, сложенными на спине, и угрожающе поднятыми игольчатыми лапами, он перебежал мне дорогу и тут же быстро зарылся в песок. Я порадовался, что здесь все-таки кто-то живет и что я так и не снял туфли — мало ли, тяпнет за ногу какая-нибудь ядовитая сволочь?
Ильницкий вкручивал пацану про пустыню — кажется, он в самом деле что-то знал. Сидел, что ли, в Средней Азии? Или строил там что-то? Я так и не мог разобраться в Ильницком: то ли он был из блатных, то ли просто поживший и многое повидавший мужик, то ли закидоны у него были кучерявые и удачно проявились, когда мы застряли в лифте…
Я поймал себя на мысли, что думаю о раввине.
Был ли он жив, когда мы уходили? Понимал ли, что остается один? Догадывался ли, что мы уносим воду?
Но теперь уж что… И я шагал, автоматически отсчитывая десятки и сотни метров, пока мы опять не наткнулись на лифт.
Кабина лежала на боку. Это была старая, очень старая кабина — с деревянной дверцей, которую вошедший сам за собой закрывал. Внутри — два скелета, один в остатках розового шифона, второй — в военной форме. Отогнав пацана в сторону, Ильницкий залез внутрь и через минуту копошения изумленно произнес:
– От же ж, нах! Гляди!
В поднятой руке он держал наган.
– А патронов нет, — сообщил он, покрутив барабан. — И в карманах нет. Зачем он его таскал, нах?!
– Офицер?
– Вертухай… Синие петлицы. Небось со Сталина еще тут валяются с бабой своей.
– Может, просто попутчица, — предположил я.
– Хер там. Торт вон был, коробка валяется… Бутылки из-под шампанского… Эх, хорошо кончил вертухай, нах! С бабой, с тортом и бухаловом.
Выбравшись из кабины, Ильницкий спрыгнул на песок и хотел уже забросить наган подальше, но увидел, как пацан смотрит на оружие горящими глазами, и сунул ему:
– Держи.
– Спасибо, дядь Слава!
Знал бы ты… Ишь, дядь Славой уже заделался. Со мной пацан почти и не разговаривал уже, да и я-то в основном молчал, неинтересно ему со мной было, получается. С Ильницким всяко интереснее.
– Посидим тут в теньке, — предложил Ильницкии.
Посидели. Выпили воды. Ее оставалось примерно четверть бутылки: газ давно вышел, и была вода на вкус крайне противная.
– Вы птиц больше не видели? — спросил я, устало вытянув ноги. Солнце стояло прямо над головой, и тени, о которой говорил Ильницкии, по сути, вовсе не было.
– Птиц? Не видел. Но направление четко держим.
– А что за птицы? Орлы? — спросил пацан.
– Большие, черные. Высоко летели, не разглядел, — сказал Ильницкий.
Пацан подумал и неожиданно испугался:
– Дядь Слава, а как же остальные?!
– Что?
– Мы же воду забрали, еду…
– А-а… Не, у еврея там еще вода была и булки какие-то. Заныкал, нах, — объяснил Ильницкии.
Пацан, кажется, поверил.
Мы подремали минут двадцать, потом я решительно сказал:
– Если заснем, зажаримся. Давайте уж лучше идти. В движении оно как-то прохладнее.
– Ну, пошли, — согласился Ильницкии.
В пути он вновь принялся рассуждать насчет ада, разумно, впрочем, не переводя разговор в плоскость окружающего, чтобы не пугать пацана.
– Прикинь, Константин: если ад есть, то туда кто попадает?
– Грешники, — буркнул я.
– Вот. То есть те, кто при жизни грешил, на дьявола работал, нах. А в аду главный кто?
– Дьявол.
– Вот. То есть с какой это стати он своим людям будет там устраивать козу на возу? В котле варить, на сковородках жарить? Они вроде как ему отслужили исправно, теперь на отдых пора. Вот и получается: ад — это рай для тех, кто при жизни грешил. Иначе дьявол, выходит, сам на бога работает?
– Получается, что так. Хотя мне, собственно, наплевать, я атеист.
– И ты небось тоже в бога не веришь? — наклонился Ильницкий к пацану. Тот помотал головой. — С одной стороны, верно все. Где тот бог? Кто видал? С другой — мало ли, по жизни осторожнее надо быть, ее, жизни той, всего ничего, кот нассал, а потом что? Может, потом вся самая жизнь и начинается, а мы ее заранее сами себе изгадили.
Ильницкий умолк и шел дальше, глубоко задумавшись. До тех пор, пока не увидел птиц.
– Вон! Вон они!!! — заорал он, подпрыгивая и размахивая руками.
Птицы в самом деле летели чуть правее нас, параллельно. Птиц было две: судя по всему, здоровенные, но на таком расстоянии можно и ошибиться. Двигались они странно, скачками, вверх-вниз, и довольно быстро исчезли за горизонтом.
– Убедились?! Убедились, нах?! — ликовал Ильницкий. — К воде идем! Опять в ту сторону летели!
Птицы обрадовали и меня: я, если честно, до сего момента не очень в них и верил, полагал, что Ильницкому причудилось от жары. Теперь и у меня появилась цель. Может быть, мы доберемся до нее еще сегодня. Может — ночью. Но скоро, скоро…
И я зашагал быстрее.
В это время раздался телефонный звонок. Пацан в недоумении вытащил из кармана мобильник, прихваченный у загипсованного Анатолия, послушал, послушал и вдруг истошно завопил:
– Мама? Мама? Это я! Мама, это я! — кричал он. — Алле, аллё! Мама, аллё!!
Видимо, связь прервалась почти что сразу, потому что мальчишка бросил телефон, сел на песок и заплакал.
6– Пацан совсем плох, далеко не пройдет, только мучается зря, — шептал Ильницкий.
Мы лежали у очередной кабины, глядя, как солнце садится в песчаное море; с другой стороны кабины, в тени, стонал спящий мальчонка.
По моим часам мы шли третий день — считая с момента, когда мы покинули наш лифт. Пацан в самом деле был плох, и я понимал, что он не пройдет и километра. Минеральная вода кончилась уже давно, но в одной из кабин мы нашли канистру, в которой плескалось граммов триста. Всего кабин попалось четыре: в трех — скелеты, одна — пустая. Та, возле которой мы сидели, была странная — без двери, большая, деревянная, с дорогим ковровым покрытием и зеркалами внутри. Кажется, такие лифты ставили в европейских отелях, они двигались без остановок и назывались «патерностер» — то ли потому, что все боялись в них ездить и молились, то ли по какой другой причине. Читал где-то, да. В «патерностере» сидел очень старый, рассыпавшийся скелет в одежде католического священника. Я полистал молитвенник (латынь!) и бросил его в песок.