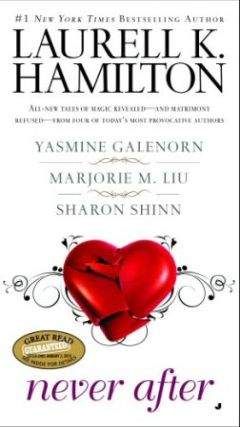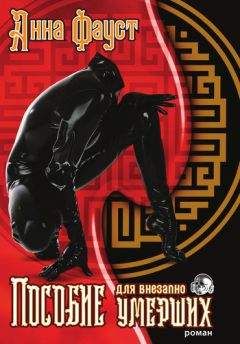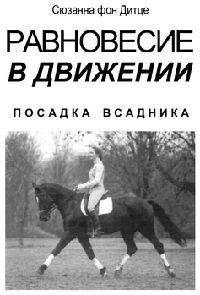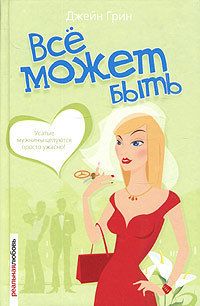Лорел Гамильтон - Обсидиановая бабочка
Даллас встала и подошла ко мне, перегнувшись через спинку моего стула.
– Что там случилось? Я один раз выходила добровольцем, и ни с кем ничего не случалось.
Я посмотрела на нее. Лицо ее было серьезно и озабоченно.
– Если ты думаешь, что ни с кем ничего не случалось, то ты плохо смотрела.
Она озадаченно нахмурилась.
Я покачала головой. Все равно уже поздно, и вдруг на меня навалилась усталость, и не хотелось ничего объяснять.
– Это я при бритье порезалась.
Она нахмурилась сильнее, но поняла, что я не хочу рассказывать, и вернулась на место, оставив меня объясняться с Эдуардом. Он наклонился ко мне, прямо к уху, и шепнул тихо-тихо:
– Они знают, кто ты?
Я обернулась, приложила рот к его уху, хотя пришлось встать на стуле на колено и прижаться к Эдуарду. Очень интимно выглядело, зато я могла шепнуть так тихо, что даже не была уверена, расслышал ли он.
– Нет, но они знают, что я не человек и не туристка. – Обняв его за плечи, я придержала его, потому что хотела сказать еще кое-что. – Что ты задумал?
Он повернулся ко мне с очень интимным, очень поддразнивающим выражением лица. И прижался ко мне, так приблизив губы к уху, что со стороны должно было казаться, будто он туда язык засунул.
– Ничего. Я просто думал, как бы ты не отпугнула монстров от разговора.
Настал мой черед шептать:
– Обещаешь, что ничего не задумал?
– Стал бы я тебе врать?
Я отдернулась, толкнув его в плечо. Не сильно, но он понял. Стал бы Эдуард мне врать? А стало бы солнце завтра всходить? Ответ на оба вопроса положительный.
Актеры, которые нас изображали, снова оказались на сцене, в мантиях. Жрец представил их, и они получили заслуженные аплодисменты. Я была рада, что они испортили себе эффект и не оставили бедную Рамону в заблуждении, будто она делала ужасные вещи. Даже несколько удивилась этому – как если бы фокусник показал секрет трюка.
– А теперь поешьте перед следующим и последним нашим действием.
Зажегся свет, и мы вернулись к еде. Я думала, что мясо – говядина, но, попробовав первый кусок, убедилась, что ошиблась. Официантка принесла мне салфетку, и я смогла выплюнуть.
– В чем дело? – спросил Бернардо, с удовольствием уплетая мясо.
– Я телятины не ем, – ответила я и набрала на вилку неизвестных овощей, а потом поняла, что это сладкий картофель. Пряности я не распознала. Ну, кулинария вообще не мой конек.
Все ели мясо, кроме меня и, как ни странно, Эдуарда. Он откусил кусок, но потом переключился на хлеб и овощи.
– И ты телятины не ешь, Тед? – спросил Олаф. Он откусил кусок и медленно жевал, будто высасывая каждый грамм вкуса.
– Не ем, – ответил Эдуард.
– Я думаю, что это не в знак протеста против убийства бедных маленьких теляток, – сказала я.
– А ты страдаешь из-за маленьких теляток? – спросил Эдуард, глядя на меня долгим взглядом. Я не могла понять выражение его глаз. Пустыми их нельзя было назвать, просто я не понимала, о чем они говорят. Какие еще сюрпризы нас ожидают?
– Такого обращения с животными я не одобряю, но если честно, мне не нравится волокнистое мясо.
Даллас смотрела на нас так, будто мы обсуждали нечто крайне интересное, а не сорта мяса.
– Тебе не нравится волокнистость… телятины?
– Не нравится, – кивнула я.
Олаф повернулся к женщине, взял последний кусок мяса и протянул ей на вилке.
– А ты телятину любишь?
Она как-то странно улыбнулась.
– Я ее здесь ем почти каждый вечер.
С его вилки она мяса не взяла, а продолжала есть со своей тарелки.
У меня было такое чувство, будто я чего-то не поняла, но я не успела спросить, как свет погас снова. Надвигалось последнее действие. Если я останусь голодной, найдем наверняка какую-нибудь забегаловку по пути домой. Всегда что-нибудь бывает открыто.
24
Свет тускнел, пока зал не погрузился в темноту. И ее прорезал тусклый узкий прожектор. Это было едва заметное белое сияние, когда прожектор высветил дальний, самый дальний угол затемненного зала.
И в это световое пятно вошла фигура. Корона из блестящих красных и желтых перьев склонилась к свету. Плащ из перьев поменьше покрывал эту фигуру от шеи и до края светового круга. Корона поднялась, открыв бледное лицо. Это был Сезар. Он повернулся в профиль, показав серьги. Золото сверкнуло в полуобороте головы, и свет стал ярче. Сезар что-то взял в руки, и музыкальная нота наполнила ближнюю тьму. Тонкая, вибрирующая нота, как звук флейты, но это была не флейта. Красивая песня, но жутковатая, будто плачет какое-то прекрасное существо. Человек-ягуар снял с него мантию и исчез в темноте. На плечах и груди Сезара лежал тяжелый золотой воротник. Если он настоящий, то это целое состояние. Из темноты со всех сторон к свету потянулись руки и, прикрываемые полумраком, сняли корону.
Сезар медленно двинулся по залу, и на полдороге я увидела, что он играет. Это было что-то похожее на свирель. Песня прорезала темноту, ползла сквозь нее, то радостная, то траурная. Кажется, действительно играл он, и у него потрясающе получалось. Ягуары сняли с него все, что на нем было: небольшой щит, странную палку, похожую на лук, но не лук, колчан с короткими стрелами или нечто подобное. Он уже был близко, и уже стали различимы нефритовые украшения у него на килте, хотя это был не килт, но и не юбка тоже. Спереди этот предмет укрывали перья, а сзади была какая-то дорогая материя. Еще несколько рук высунулись из света и сняли эту одежду вместе с нефритовым убором. Сейчас действие происходило достаточно близко, и видно было, что руки принадлежат ягуарам. Они раздели его до плавок телесного цвета, таких же, какие были на нем раньше.
Песня взлетела в полумрак, когда он приблизился к последнему ряду столов. Казалось, видно, как ноты взлетают подобно птицам. У меня обычно музыка не вызывает поэтических ассоциаций, но сейчас происходило что-то другое. Почему-то ясно было, что это не просто песня, которую можно послушать и забыть или напевать потом. Думая о ритуальной музыке, люди представляют себе барабаны, у них возникают ассоциации с ритмом сердца, приливами и отливами крови. Но не все ритуалы должны напоминать нам о теле. Некоторые создаются для того, чтобы намекнуть, зачем выполняется ритуал. Всякий ритуал сотворен сердцем во имя божества. Ну, пусть не всякий, а почти всякий. Мы кричим: эй, Бог, посмотри на меня, на нас, мы хотим, чтобы тебе понравилось. Все мы в душе дети и надеемся, что папочке или мамочке понравятся наши подарки.
Ну, бывает, правда, что у мамочки с папочкой характер тот еще.
Сезар выронил свирель, и она повисла на шнурке у него на шее. Он опустился на колени и снял сандалии, потом отдал их женщине за ближайшим столом. Она как-то завозилась в полумраке, будто не знала, хочет ли их брать. Наверное, опасалась после предыдущего представления. Честно говоря, трудно ее в этом упрекнуть.