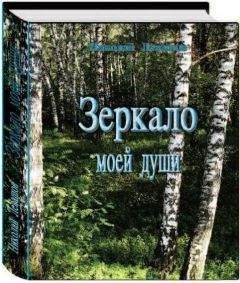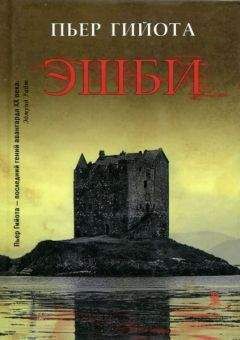Дион Форчун - Жрица моря
Не было никакой возможности говорить с нею, когда она занималась готовкой — ведь это было опасным занятием, а к приготовлению пищи она относилась со всей серьезностью — гораздо серьезнее, чем я относился к своим занятиям живописью и даже к работе агента по продаже недвижимости. Более того, Морган никогда не заговорила бы с мужчиной, не накормив его: это правило она выучила у южноамериканских президентов, никогда не раздумывающих долго перед тем, как выстрелить.
Когда, насытившись, я курил и пил кофе, она неожиданно обратилась ко мне:
— Так где же правда, Уилфрид?
— Именно это я и пытался только что узнать у вас, — сказал я, — но вы прервали меня.
— Нет, все было не так, — возразила она, игнорируя мои жалобы. — Вы спросили меня, где же истина, имея в виду нечто определенное. Я же спрашиваю вас, в чем заключается истина как таковая? Мы не можем оперировать понятием одной, отдельной истины, не разобравшись в истине всеобщей. Так где же истина, Уилфред?
— Бог его знает, — сказал я, — что на самом деле является всеобщей истиной, но вы ведь прекрасно знаете, где заключена данная, конкретная правда, — вне зависимости от того, скажете ли вы мне ее, или нет.
— Я совсем не разделяю вашей уверенности, — сказала она. — А как вы представляете себе правду обо мне, Уилфрид?
— Иногда я думаю одно, Морган Ле Фэй, — произнес я, — а иногда — другое. Все зависит от того, какое у меня настроение в данный момент.
Она рассмеялась.
— Думаю, что ваши слова настолько близки к правде, что ближе и невозможно. Наши позиции абсолютно совпадают. Иногда я думаю о себе одно, иногда — другое. Пока я верю в себя, я обнаруживаю, что в состоянии делать определенные вещи. Стоит мне перестать верить в себя — и у меня тут же возникает ощущение, что я вот-вот рассыплюсь прахом, подобно незавернутой мумии. Существует более одного вида правды. То, что не существует в нашем трехмерном мире, может существовать в четвертом измерении как своего рода реальность.
— А что представляет из себя четвертое измерение?
— В этом смысле мне не хватает познаний в математике, — сказала Морган, — но в чисто практических целях я принимаю за четвертое измерение разум — и это работает. Для меня этого вполне достаточно.
— Но этого совсем не достаточно для меня, — возразил я. — Я хочу понять природу вещей несколько лучше, прежде чем буду готов доверять им.
— Вы никогда не сможете понимать вещи, которым вы не доверяете, — ведь таким образом вы подавляете в себе сомнения.
— И никогда не узнаешь — выдержит ли лед — пока не ступишь на него; но если окажется, что он не выдержит, тогда проваливаешься.
— Не разбив яиц, не сделаешь яичницы.
— Как же поступать в таком случае?
— Не знаю, как поступать вам, но я знаю, что делать мне.
— И что же?
— Я принимаю собственные меры предосторожности и беру свою часть риска на себя.
Я никак не прокомментировал ее слова; да ее и не интересовали мои комментарии — она знала, что в случае, когда вести придется ей, я последую за ней, а она лишь останется самой собой.
— Я могу показать вам то, о чем не в состоянии рассказать, Уилфрид, — произнесла она. — Это очень странные вещи. Я не претендую на их понимание, но знаю, что они работают. Оставим их в покое сегодня, ибо до следующих выходных луна будет убывать; но придите ко мне в ближайшее полнолуние, и я покажу вам все.
Глава 24
Распоряжение Морган держаться от нее подальше до следующего полнолуния означало, что я не видел ее целый месяц. Впервые с момента ее появления в форте я скучал по выходным, и месяц этот показался мне необычайно длинным. Он со всей остротой заставил меня почувствовать, что Морган значила для меня, какую роль она играла в моей жизни и какой была бы моя жизнь без нее. К концу этого месяца мои мать и сестра уже со всей серьезностью рассматривали мое первоначальное предложение переселиться в отдельный дом. Что делала в это время Морган — я не знаю; но, вновь приехав в форт, я заметил некую странную, едва уловимую и не поддающуюся определению перемену. Запахи кедра и сандала настолько пропитали все вокруг, что форт просто благоухал ими. Казалось, форт представляет собой хорошо настроенную арфу, готовую к игре. С этого момента, подобно эоловой арфе, он периодически издавал едва заметные, вздыхающие звуки. Никогда не забуду ту атмосферу странного напряженного ожидания и всепроникающий аромат ритуальных курений, который издавало дерево.
Что-то необычное творилось и с морем. Описать это непросто: казалось, что оно стало будто бы ближе к нам и могло по желанию затопить все комнаты. Вместе с тем оно не было чем-то чужеродным, угрожающим погружению в пучину — ведь между нами и морем установилось родство, так что, казалось, даже под водой мы смогли бы дышать, подобно амфибиям. Не могу объяснить странное чувство, охватившее меня: освободившись от страха перед морем, я представлял, что теперь волна никогда не смоет меня с утеса, тогда как я смогу гулять в глубинах подобно тому, как делаю это в тумане, — осознавая, что вокруг лишь более плотная, но не враждебная среда.
Морган приготовила мне очень своеобразный ужин: здесь был и творог с миндалем, подобный тому, что делают китайцы; и гребешки в раковинах; и маленькие, в форме полумесяца медовые пирожные-марципаны на десерт — все было белого цвета. Воистину бледный вид обеденного стола оживляла большая горка гранатов на большом глиняном блюде, стоявшем в центре.
— Это — лунная еда, — с улыбкой произнесла Морган.
— Да, и поев гранатов, — добавил я, — назад уже не вернуться, — после чего взял один.
В этот вечер мы не делали ничего — просто сидели у огня; я пытался развлечь Морган, рассказывая ей смешные истории про Дикфорд, но ничего не выходило, ибо атмосфера была слишком напряжена. Спать мы легли рано.
Я заснул почти сразу — во всяком случае, мне так показалось — и мне приснился очень странный сон.
Мне казалось, что я стою в большой гостиной внизу, и что все изображения на стенах ожили и стали совсем реальными; точно так же реальными были и неокрашенная штукатурка, и Лунный Жрец на своем троне. Жрец подошел ко мне поближе и встал рядом со мной. На нем был странный, высокий головной убор, напоминавший царскую тиару в Верхнем Египте. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я почувствовал такую непогрешимую уверенность в нем, которой я не чувствовал в отношении кого бы то ни было.
Медленно и плавно, как это бывает во сне, мы покинули дом. Широкое стекло окна никоим образом не было препятствием для нас, так что мы понеслись к утесу — к тому месту, где погиб «жертвенный телец» — а затем дальше в море.