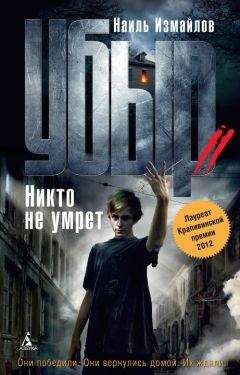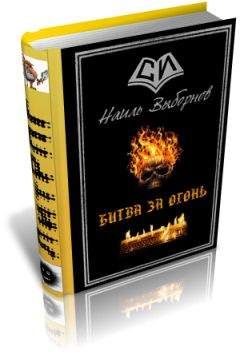Наиль Измайлов - Убыр
Прыщавый сержант, повесив руку за спиной, будто ожидая, что дядя Валя сам в нее вернется, крикнул Марат-абыю:
– Друг, на месте встал, проблемы сейчас будут!
А Эдик подобрался, готовясь ударить.
И ударил. Несильно, но звучно вытянул по мокрой спине, воскликнув одновременно со шлепком:
– Стой, на, я сказа-ал!
Марат-абый от удара даже не вздрогнул, а на голос все так же повел головой, сделал два боковых неровных шага, подныривая, как новичок в атаке, и вцепился зубами Эдику под левое плечо.
– Ай, – растерянно сказал Эдик, пытаясь отдернуться.
Блестящая куртка у него была толстой – сержанту, видать, совсем не было больно.
– Ты дернулся, что ли? Сядь щас! – заорал прыщавый, не трогаясь с места.
Он пытался правой рукой вытащить дубинку. А левой все ловил маньяка, который никак не мог распахнуть двери у себя за спиной и бился в них все сильнее. И ножом махал в такт.
Я хотел крикнуть уже, предупредить, но дохлый успел первым. Он не крикнул, он очень спокойно спросил:
– Дед, ты чего по беспределу?..
– Заткнись! – завизжал дядя Валя так, что прыщавый перестал мотать ладошкой за спиной, крутнулся, увидел нож, зашарил по поясу и вскричал, забирая голосом все выше:
– Так, нож положил, положил быстро, я сказал, Эдик, у этого точно нож!
Эдик ударил Марат-абыя дубинкой по голове, уже сильно, громко – раз и два, а тот и не пошевелился, только глазами вольно двигал. Эдик выкрикнул:
– Ща, с этим клоуном разберусь! Ты его-о-о-ой!
Марат-абый быстро расцепил пасть, выпрямился, схватил Эдика за руку и полу куртки, рванул руку вверх, а куртку вниз так, что куртка с треском разошлась, и серая форма под ней тоже – и вгрызся в дико неуместную здесь бледную подмышку.
Эдик взревел.
Дядя Валя тоже. Слепо рванул ручку за спиной и, визжа, заколотился в дверь.
– Молчи! Эдик, что? – спросил прыщавый, не оборачиваясь.
Он выдернул наконец дубинку, отвел ее в замахе и свободной рукой схватил дядю Валю за шиворот.
Дядя Валя, не отвлекаясь от двери и визга, ткнул ножом за спину.
Лезвие вонзилось прыщавому в район локтя и выскочило обратно. Даже не испачкавшись.
Прыщавый негромко и как-то жалобно сказал «а-а» и стукнул дядю Валю дубинкой по затылку. Несильно стукнул, но дядя Валя все равно с треском – кажется, зубовно-стекольным – упал на двери, так и не успевшие распахнуться, и начал сползать. Наконец-то молча.
Эдик тоже не кричал и даже не сипел. Он, суча ногами и правой рукой – левая у него была задрана, как выломанная ветка, – валился через спинку скамьи. А Марат-абый, сгорбивший блестящую спину, возился у него на груди, не вынимая головы из милицейской подмышки.
Прыщавый этого не видел. Он, шипя, пытался рассмотреть локоть повисшей руки. С рукава капало, но рану прыщавому видно не было. Мне тоже, но я почему-то понимал, что с рукой все плохо. Прыщавый пока не понимал. Он перестал выкручивать плечо и шею, пнул неаккуратно прильнувшего к порогу дядю Валю и громко сказал:
– Эдик, ты видел? Это чмо меня в натуре порезало.
Эдик, совсем оседланный Марат-абыем, тяжело рухнул на пол.
Бежать, понял я. Но Марат сожрет же Эдика тогда.
Прыщавый не боец, гопота глазками хлопает.
И что? Мы из-за Эдика до деда не доехали и в этой вонючей пасти оказались. Пусть сам узнает, каково в этой пасти.
Я подобрался, выдохнул и выпрыгнул через скамью на почти не видную отсюда спину Марат-абыя.
6
Сердце слева, а почти всегда сильнее правая рука. Поэтому сила справа, а жизнь слева. Не забыть бы.
Сзади нападать западло, я знаю.
Но людей кусать тем более западло. Нельзя так. И все равно я спереди напасть не смогу. Не втиснусь между Эдиком и Марат-абыем. Да и не решусь.
Я прыгнул как на волка. Затылок сломать не надеялся, конечно, но думал: сшибу его вбок, стащу с несчастного Эдика и дальше видно будет. Но влажный горб Маратовой спины был твердым и скользким, как вулканическое стекло. Пиджак под моим ударом не пал и дрогнул. Чуть дернулся, будто сумку с плеча сбрасывая. И я, перевернувшись, рухнул на пол.
Ой, как больно-то, ошалело подумал я, пытаясь сообразить хоть что-нибудь. Снизу все выглядело неправильно: свисавшая почти к моему носу рука была слишком большой и бело-синей, мозоли на костяшках – слишком кривыми и сиреневыми, а голова Эдика – слишком маленькой и слишком сильно, капюшоном, закинутой за плечи. А головы Марат-абыя вообще было не видать – казалось, что он не спрятал лицо в чужую подмышку, как ребенок к мамке, а грудь Эдику проломил и в легкие вгрызся, или что там под ребрами.
Там хлюпнуло. Марат-абый приподнялся, лицо у него было черным и текло черным, как губка. И я понял, что ни фига мне не казалось. Мой бывший дядька в самом деле полголовы уже пропихнул в дыру, прогрызенную в груди милиционера.
Он застыл, примериваясь, что ли, как поглубже нырнуть, и рука Эдика перед моим носом дернулась, раскидывая синеватые пальцы, как ветки на детском рисунке. Ты все равно уже помер, и Марат помер, сами разбирайтесь, отчаянно подумал я, но крикнул:
– Kit!
Как папа мне сто лет назад.
Сипло крикнул, сам себя сквозь гул в ушах не услышал. А Марат-абый услышал.
Он медленно повернулся, скособочившись, потому что не разжал вцепившихся в Эдика пальцев. Нашел мое лицо и моргнул. Правый глаз у него тут же склеила натекшая кровь, он разжмурился, но густые столбики между ресницами не разомкнулись. Марат-абыю это не мешало. Он разворачивался туловищем ко мне – все так же, как игрушка на шарнирах, а руки-ноги не сдвигал, хотя это уже невозможно было. Разворачивался и подбородок поднимал. Вернее, пасть. Сжатую. Пока.
Вскакивать было нельзя – как раз в пасть и воткнусь, башкой или шеей. Подмышкой. Я с силой оттолкнулся от скамьи над головой, чтобы выехать в проход – и чесать из вагона, а может, и из поезда. Но ворот зацепился за что-то вроде болта, торчащего из пола. Я шумно шарахнулся затылком, ладно не в болт, а рядом, и влетел головой-плечами под сиденье, из-под которого пытался выскочить. Изнанка лавки была из грязного рыжеватого крагиса. Сейчас и из меня рыжеватое хлынет, понял я, задыхаясь, додумался закинуть руку за голову и сняться наконец с дурацкого болта. Выполз из-под лавки и вскочил, кошмарно ожидая, что упрусь в залитую кровью пасть.
Но уперся в удмурта, который, дурак такой, придерживаясь за спинку, размеренно пинал Марат-абыя ногой в бок, визгливо приговаривая:
– Чё творишь, а? Чё творишь, баран, а?
Гулкие удары стряхивали тяжелые капли с лица твари, но не сдвигали ее саму – тварь, а не дядьку моего, который меня на корове катал и мед в сотах привозил, дошло до меня наконец. Тварь, сгорбившись над телом Эдика, рыскала взглядом по полу.