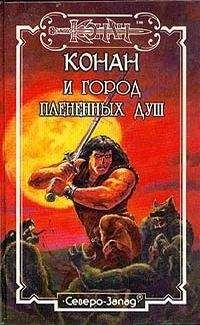Мишель Цинк - Хранительница врат
Он проворно шагает вперед, оставляя нас втроем, а я в который раз дивлюсь его способности делать и говорить именно то, что сейчас более всего нужно.
Мы с Соней и Луизой молча идем дальше. Ветер треплет нам волосы, играет складками платьев. На ходу я машинально потираю гребень — но приятная гладкость слоновой кости ничуть не помогает унять гнев, бурлящий в моем разуме.
Наконец Соня нарушает молчание и тихонько вздыхает.
— Лия, я… мне так стыдно. Последних дней в лесу я толком не помню. — Она отворачивается, глядит вниз, точно черпает силы в море внизу под обрывом. — Я знаю, что делала ужасные вещи. Говорила ужасные вещи. Я была… не в себе. Прости меня.
Я с трудом нахожу слова для ответа.
— Дело не в прощении. — Я обгоняю подруг, надеясь быстрой ходьбой обуздать прилив горечи, что слышу в своем голосе и чувствую в сердце.
— Тогда… в чем? — с отчаянием спрашивает Соня.
Я останавливаюсь и поворачиваюсь лицом к морю.
Звука шагов по гравию не слышно — значит, Соня с Луизой остановились у меня за спиной. Так много слов кипит у меня в голове, так много вопросов и обвинений… Не меньше, чем песчинок на пляже. Впрочем, сейчас значение имеет только один вопрос.
Я снова оборачиваюсь к Соне.
— Как ты могла?
Плечи ее обмякают. Это смирение, эта слабость пробуждают во мне не сочувствие и сострадание, а лишь все сильнее разгорающееся пламя, которое я с трудом сдерживала с той самой ночи, когда проснулась и обнаружила, что она прижимает медальон к моей руке. На один жуткий момент я цепляюсь за возможность выплеснуть чувства наружу.
— Я доверяла тебе! Верила тебе во всем! — яростно выкрикиваю я и швыряю в Соню гребень. — Как тебе теперь доверять? Как тебе вообще когда-нибудь доверять?
Соня вздрагивает и отшатывается, хотя гребень, конечно, не слишком грозное оружие. Наверное, в том-то все и дело: даже сейчас я все равно люблю Соню. Все равно не могу причинить ей вред, хотя и сдержаться тоже не могу.
Луиза делает шаг вперед, словно желая защитить Соню, заслонить ее от меня. От меня!
— Лия, прекрати.
— С какой это стати, Луиза? — спрашиваю я. — Почему мне нельзя задать вопросы, которые все равно надо задать, пусть они и страшат нас?
Снова воцаряется молчание. Сказать нечего. Я говорю правду — и мы все это знаем. Да, я и в самом деле скучала по Соне. Я и в самом деле люблю ее. Но нельзя закрывать глаза на вещи, которые могут слишком дорого нам обойтись, которые могут стоить нам жизни.
Луиза подходит ко мне. По дороге она наклоняется, подбирает горсть камушков и, остановившись на самом краю обрыва, забрасывает их в море. В тщетной попытке отвлечься мы следим за их полетом вниз, но с высоты не видно, как они падают в волны.
— Лия права. — Я поворачиваюсь на звук Сониного голоса. Она подобрала мой гребень и разглядывает его так пристально, точно он содержит ответы на все наши вопросы. — Я не оправдала вашего доверия. Теперь никак нельзя знать наверняка, что в следующий раз, когда падшие души попытаются меня использовать, я окажусь сильнее — хоть я и надеюсь, что следующего раза не будет. Они… — Соня ненадолго прерывается, а потом продолжает далеким, глухим голосом: — Они предстали предо мной не как падшие души, а в облике моей… моей матери. — Соня поворачивается ко мне, и в глазах ее плещется боль. — Я встретила ее на Равнинах. Она раскаивалась, что отослала меня жить с миссис Милберн — мол, сама не понимала, что творит, надеялась, что миссис Милберн поможет мне понять мою силу. Так чудесно было — снова обрести мать, пусть даже в ином мире.
— А потом? — еле слышным шепотом спрашиваю я.
— Потом она начала переживать за меня. Волноваться, что со мной что-нибудь случится. Говорить, что, храня твой медальон, я подвергаю себя постоянной опасности. Что мы все в опасности из-за того, что ты отказываешься открыть Врата. Сперва я не слушала. Но постепенно… Не знаю, как объяснить… В общем, постепенно мне стало чудиться, что в словах ее есть здравый смысл, пусть и странный. Конечно, теперь-то я понимаю, что просто была уже не в себе, но… — Она заглядывает мне в глаза, и даже теперь видно, какую власть имели над ней падшие души. Видно, какой силой обладает предложение вернуть то, что казалось безвозвратно утраченным. — Все происходило так медленно, что я даже не знаю, когда именно это началось.
Слова ее поднимаются и опадают в дыхании моря, эхом звучат у меня в голове — и сменяются полным безмолвием. Соня робко протягивает мне гребень.
Я беру его у нее.
— Прости, — говорю я потому, что швырнула в нее гребнем со зла, однако в глубине души я вовсе не уверена, что искренне прошу о прощении.
Соня разворачивает руки ладонями вверх, к небу, точно сдаваясь на нашу милость.
— Нет, это ты меня прости, Лия. Я только и могу теперь, что молить тебя о прощении и клясться, что скорее умру, чем снова предам тебя.
Луиза подходит к ней и кладет руки ей на плечи.
— Соня, этого вполне достаточно. Для меня — достаточно.
Я с трудом делаю несколько шагов по неровной земле и обнимаю Соню с Луизой. Мы стоим, словно в те времена, когда пророчество было лишь неясной загадкой, а не грозной реальностью, что уже навсегда изменило наши жизни, а теперь грозит и вовсе оборвать их.
В тот краткий миг, на вершине холма над морем, я всем сердцем верю, что все снова стало как прежде, когда мы трое безоговорочно доверяли друг другу. Однако в глубине души мы понимаем: никогда уже ничто не станет таким, как прежде.
Прощание с Соней ничего не прояснило, и, тем не менее, я верю: подруга искренне желает нам добра и искренне надеется впредь хранить верность нашей стороне. Теперь остается лишь ждать, пока Сестры сочтут, что она достаточно окрепла и может вернуться в Лондон.
Мы возвращаемся к Святилищу и на полдороге замечаем, что навстречу нам кто-то бежит.
Димитрий рукой прикрывает глаза от солнца и вглядывается в показавшуюся впереди фигуру.
— Это кто-то из Сестер.
Платье Сестры раздувается на ветру, золотые волосы развеваются за плечами, сверкая, точно стекло на солнце. Наконец она добегает до нас, и я понимаю, что никогда прежде не видела эту девочку, должно быть, не старше Астрид. В первую минуту она не может вымолвить ни слова, до того запыхалась. Согнувшись, девочка жадно ловит ртом воздух и, наконец, выпрямляется, хоть дышит все еще прерывисто, а щеки ее залиты жарким румянцем.
— Мне… такое горе… Леди Абигайль… скончалась.
Я не сразу осознаю смысл ее слов. Разум мой пуст, словно неиспользованные холсты, сложенные в классе по рисованию в Вайклиффе. Однако следующие слова юной Сестры пробиваются сквозь это оцепенение.