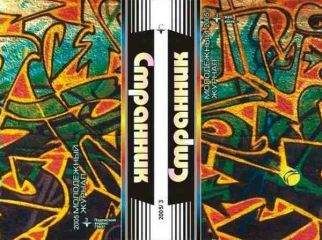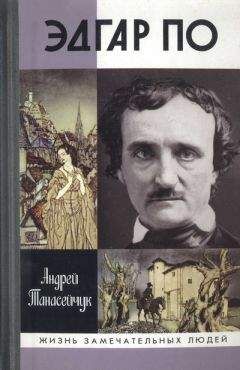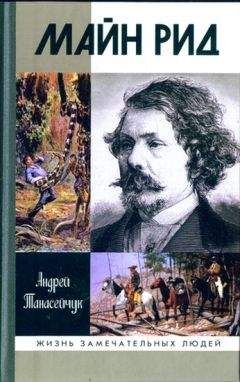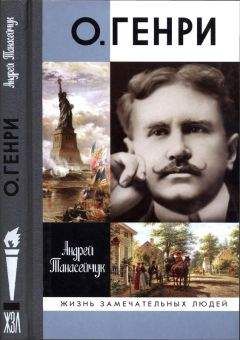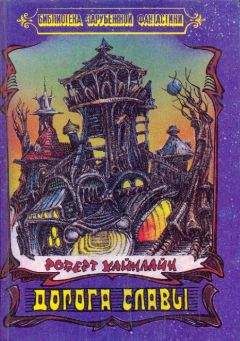Наставники Лавкрафта (сборник) - Джеймс Монтегю Родс
– Понятно, – Майлс, учитывая обстановку, не выходил за рамки приличий. Он приступил к обеду с теми очаровательными «застольными манерами», которые с первого дня знакомства избавили меня от неприятного ритуала уговаривания. Если его и выгнали из школы, то не за неряшливость при приеме пищи. В тот день он был безупречен, как всегда; но, несомненно, более задумчив. Он явно пытался принять на веру больше вещей, чем мог воспринять сам, без помощи; и, поняв это, не нарушал мирного молчания. Отобедали мы быстро – я напрасно старалась съесть хоть кусочек и вызвала служанку, чтобы сразу убрала со стола. Майлс тем временем стоял, снова держа руки в карманах, спиной ко мне, стоял и смотрел в широкое окно, через которое я когда-то получила заряд тревоги. Пока горничная находилась в комнате, мы молчали. По какой-то причудливой ассоциации я подумала, что мы похожи на молодоженов, которые во время свадебного путешествия сидят в гостинице и стесняются в присутствии официанта. Мальчик обернулся ко мне, лишь когда горничная ушла.
– Итак, мы остались одни!
– О, более или менее, – улыбка моя, наверно, получилась бледной. – Не абсолютно. Но желать этого не следует!
– Да, я думаю, не следует. Конечно же, тут есть и другие люди.
– Есть и другие – действительно другие, – согласилась я.
– Ну, даже если они тут есть, – парировал мальчик, неподвижно стоя передо мной и по-прежнему держа руки в карманах, – на них не нужно обращать много внимания, верно?
Я выдержала этот удар, но чувствовала себя истощенной.
– Это зависит от того, что по-твоему значит «много»!
– Да… – он, кажется, готов был согласиться, – от этого зависит все!
Однако затем Майлс снова поглядел в окно и сделал несколько шагов к нему, неровных, нервных и нерешительных. Прислонившись лбом к стеклу, он застыл, созерцая знакомые мне нестриженые кусты и унылые образы ноября.
Использовав обычную хитрость «мне нужно работать», я присела с рукодельем на диван. Это всегда успокаивало меня в те мучительные моменты, когда я осознавала, что дети посвящены в некую тайну, которая от меня закрыта на замок, и по привычке готовилась к худшему. Но напряженная спина мальчика вдруг произвела на меня особое впечатление: казалось, что замок открылся. За считаные минуты это впечатление окрепло и стало таким острым, что теперь мне казалось, будто это перед ним замкнулась дверь. Переплет большого окна стал рамой, в которую была как бы заключена картина его неудачи. Замкнут ли он внутри картины или вне ее, я определить не могла. Он был восхитителен, но не безмятежен, и я ощутила прилив надежды. Неужели он пытается разглядеть за окном нечто призрачное, чего уже не может увидеть? И не случилась ли такая осечка с ним впервые за все время? Да-да, впервые: а ведь это прекрасное знамение! Он встревожился, хотя и держал себя в руках; он был встревожен с самого утра, и понадобился весь его странный гений, чтобы скрыть это за обычным блеском застольных манер. Когда наконец он вновь обратился ко мне, я была почти уверена, что гений потерпел крах.
– Ну, я думаю, это хорошо, что климат Блая не вреден мне!
– За последние сутки, надеюсь, ты сумел лучше ознакомиться с усадьбой, чем раньше, – храбро продолжала я, – и, наверно, тебе это понравилось.
– О да, я ходил далеко-далеко, на многие мили кругом. Никогда еще не знал такой свободы.
Мне оставалось только поддерживать разговор в заданном им тоне:
– И как, тебе понравилось?
Майлс слушал, улыбаясь; потом обронил два слова: «А вам?» – ухитрившись вложить в них максимум пренебрежения. Я не сразу нашлась, что ответить, но он добавил, как бы сознавая, что должен как-то смягчить свою дерзость.
– Вы это переживаете так мило, я просто очарован! Мы-то, конечно, остались тут вместе, но основная часть одиночества досталась вам. Впрочем, – небрежно бросил он, – я надеюсь, что вас это не слишком огорчает!
– Иметь дело с тобой? – уточнила я. – Дорогое дитя, отчего бы мне огорчаться? Хотя я не буду навязываться тебе в компанию, ведь ты стоишь гораздо выше меня, но общение с тобою доставляет мне удовольствие. Иначе зачем бы мне здесь оставаться?
Майлс поглядел на меня внимательнее, серьезнее, и никогда не был он так красив, как в тот момент.
– Вы остались только из-за этого?
– Конечно. Я осталась как твой друг, ты меня очень интересуешь, и я тут побуду, пока не удастся найти что-то более подходящее для тебя. Ничего удивительного в этом нет. – Голос мой дрогнул, и я не смогла с ним справиться. – Помнишь ли ты, как я пришла и сидела на краю твоей кровати в ночь, когда была буря, и сказала, что ради тебя готова сделать все на свете?
– Да, да! – Он нервничал все заметнее, и ему тоже приходилось следить за своим тоном; но ему это удавалось лучше, чем мне: вопреки своей серьезности, он засмеялся, притворяясь, будто мы просто по-дружески шутим. – Только вам это нужно было, чтобы я что-то сделал для вас!
– Верно, это отчасти так и было, – согласилась я. – Но ты же знаешь, что ничего не сделал.
– О да, – признался он с поверхностной легкостью, – вы хотели, чтобы я вам что-то рассказал.
– Именно. Прямо и открыто. О том, что было у тебя на уме.
– Ага, значит, вы остались все-таки ради этого?
Говорил он весело, но я улавливала едва различимую дрожь горячей обиды; но выразить свои чувства при этих слабых признаках его сдачи не возьмусь. Было так, словно сбылась моя заветная мечта, а я чувствую лишь удивление.
– Ну что ж, я тоже могу открыть свою душу: да, такова была моя цель.
Он замолчал надолго, и я предположила, что он готовится опровергнуть ту идею, которой было обусловлено мое желание; но сказал он наконец иное:
– Вы хотите здесь… и сейчас?
– Самое подходящее место и время.
Он обеспокоенно огляделся, и я уловила первый симптом приближающегося страха – редчайший и такой необычный! Он как будто внезапно испугался меня, и это, пожалуй, можно было считать наилучшим результатом. Но при всем моем напряжении я напрасно пыталась стать суровой – и сама удивилась, как мягко, почти смешно прозвучал мой вопрос:
– Тебе так хочется снова выйти наружу?
– Ужасно!
Он героически улыбнулся, и это проявление мужества в ребенке было тем более трогательно, что он покраснел от боли. Он взялся за свою шапку, которую снял перед едой, и стал мять ее с таким видом, что я, почти достигнув желанной гавани, ужаснулась тому, что делала. Мое милосердие получалось каким-то извращенным: каким бы способом я ни добилась победы, это все равно был бы акт насилия, ведь я обрушивала бремя проступков и вины на маленькое беззащитное существо, которое поначалу открыло передо мной возможности прекрасного общения! Разве это не низость – создавать для такой замечательной личности атмосферу отчуждения и неловкости? Я полагаю, что оцениваю сейчас нашу ситуацию с той ясностью, которая тогда была недоступна мне, и словно вижу наши несчастные глаза, уже освещенные искрами предчувствия грядущей беды. Мы ходили кругами, мучаясь страхами и уколами совести, подобно борцам, не смеющим сойтись в схватке. Но каждый из нас боялся за другого! Так нам удалось еще немного продлить ожидание и оставаться невредимыми.
– Я все расскажу вам, – сказал Майлс, – то есть все, что вы захотите. Вы останетесь со мной, и нам обоим будет хорошо, и я хочу рассказать, хочу! Но не сейчас.
– Почему не сейчас?
Моя настойчивость вынудила его снова отвернуться к окну, и в наступившей тишине можно было бы услышать падение иголки. Потом Майлс снова подошел ко мне с видом человека, которого где-то снаружи ждет некто, требующий внимания.
– Мне нужно увидеться с Льюком.
Раньше я не доводила его до столь вульгарной лжи, и мне стало стыдно в той же мере. Но, как ни мерзка была эта ложь, для меня она открыла истину. Я задумчиво закончила ряд петель своего вязанья.
– Ну что же, иди к Льюку, я помню о твоих обещаниях и подожду. Однако в обмен на это будь добр перед уходом выполнить гораздо меньшую мою просьбу.