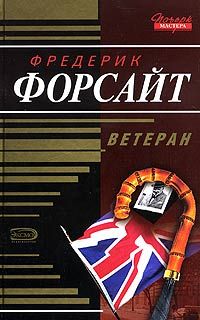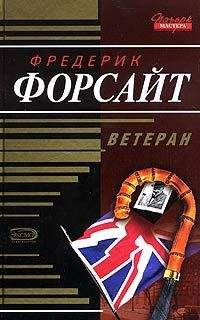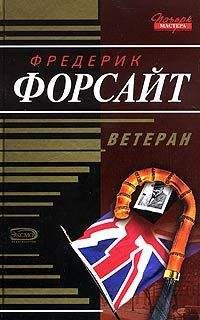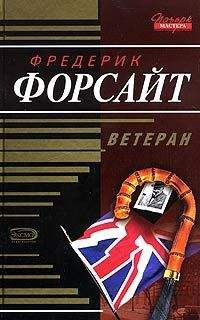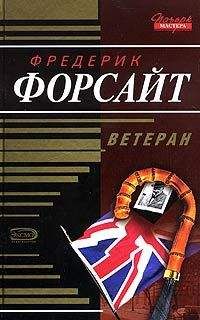Фредерик Форсайт - Ветеран
«Вы замечательный молодой человек, — сказал он наконец. — Вы совершили невозможное. Кстати, вам известно, что мы отступаем?» Я сказал, что уже понял это. Такие слухи в армии, терпящей поражение, распространяются быстро.
Затем он отдал приказ своим людям. Двор заполнили санитары с носилками. Забирайте только немцев, сказал им он. А союзники пусть сами позаботятся о своих. Он ходил вдоль рядов раненых немцев и лично отбирал тех, кто мог бы перенести долгий тяжкий путь по горным дорогам до Милана, где все они наконец смогли бы получить надлежащий уход в стационарном госпитале. Тех же немцев, которые, по его мнению, были обречены и совершенно безнадежны, он велел санитарам не трогать. И вот он провел этот отбор, и со двора увезли человек семьдесят. Пятьдесят оставили, и еще остались раненые союзники. Затем он снова подошел ко мне. Солнце зашло за дома, освещало теперь лишь вершины гор. В воздухе запахло долгожданной прохладой. Фон Стеглиц утратил присущие ему деловитость и живость. Теперь он выглядел усталым и постаревшим.
«Кто-то должен остаться с ними. Может быть, вы?»
«Я останусь».
«Но это означает, что вас могут взять в плен».
«Знаю, сэр, — ответил я. — Я это понимаю».
«Что ж, тогда для вас эта война будет недолгой. Надеюсь, когда-нибудь встретимся снова, уже на родине».
На том и закончился наш разговор. Он прошел в арку, развернулся и отдал мне честь. Можете себе представить? Генерал отдает честь капитану. Фуражки на мне не было, а потому я не мог ответить ему тем же. Так и стоял, и смотрел на него, а потом он ушел. Больше я никогда не видел этого человека. Он погиб полгода спустя, в бомбардировке. А я остался здесь, и на руках у меня было сто пятьдесят раненых, обреченных на верную смерть. Солнце зашло, на город спустилась тьма, керосин в лампах кончился. Но тут взошла луна. И вот в свете луны я начал обносить раненых водой. Обернулся и увидел: она появилась снова.
С Пьяцца дель Кампо доносился теперь непрерывный рев. Десять жокеев, все маленькие, жилистые и ловкие, как обезьяны, все профессионалы, вскочили на лошадей. У каждого в руке был арапник, сделанный из высушенного бычьего хвоста, и они принялись нахлестывать этими арапниками не только своих лошадей, но всех и всякого, кто встречался на их пути, а также лошадей и соперников, оказавшихся в опасной близости. Тоже непременная часть ритуала, и предназначена она была не для слабонервных. На наездников делали ставки, жажда победы была неутолима, и здесь, на песчаном круге, все средства были хороши.
Толпы людей бросились туда, где был натянут толстый канат, отмечавший место старта. Каждый из жокеев был одет в цвета своей контрады, на каждом красовался круглый стальной шлем, в руке каждого был наготове арапник, а пальцы другой руки крепко-накрепко впивались в поводья и туго натягивали их. Судья вопросительно взглянул на градоначальника, ожидая от него кивка, чтоб опустить канат — это служило сигналом к старту. Рев толпы напоминал львиный рык.
— Так она вернулась? На третью ночь тоже?
— Да, то была третья ночь и последняя. И мы стали работать вместе. Изредка я заговаривал с ней, по-немецки, разумеется, но она не понимала ни слова. Лишь улыбалась, но ничего не говорила, даже по-итальянски. Продолжала ухаживать за ранеными. Я принес еще воды и сменил несколько повязок. Фон Стеглиц оставил мне немного бинтов и медикаментов. Он был не слишком щедр, полагая, что этим людям все равно долго не протянуть. К рассвету все умрут.
И вот именно на третью ночь я заметил то, чего не замечал прежде. Она была довольно хорошенькой девушкой, но в свете луны я разглядел у нее по большому черному пятну на тыльной стороне каждой ладони, размером примерно с долларовую монету. Лишь много позже, через несколько лет, я догадался, что это такое. А незадолго до наступления рассвета она снова незаметно исчезла.
— И вы никогда ее больше не видели?
— Нет. Никогда. Зато сразу после восхода солнца увидел вывешенные в окнах флаги. И никакого орла рейха на них не было. Сиенцы нарезали ткань на куски, а затем сшили вместе флаги союзников, особенной популярностью пользовался у них почему-то французский триколор. И вот весь город оказался увешан пестрыми флагами. А примерно в семь вечера на улице послышался топот шагов, он приближался. Я испугался. Впрочем, и понятно. Ведь мне никогда прежде не доводилось видеть ни одного солдата союзнической армии с ружьем в руках. А гитлеровская пропаганда уже успела внушить, что все они убийцы и чудовища.
Через несколько минут в арку вошли пятеро солдат. Смуглые, почти черные, лица, а форма так забрызгана грязью, что мне стоило труда определить, какую страну они представляют. Но затем я разглядел на нашивках Лорранский крест. Французы. Только алжирские французы. Они прокричали несколько слов, но я их не понял. То ли по-французски, то ли по-арабски. Просто улыбнулся и пожал плечами. Поверх немецкой формы на мне был залитый кровью медицинский халат, но из-под него торчали сапоги. Они меня выдавали, такие сапоги носят только офицеры армии вермахта. А эти люди только что выстояли в тяжелейшем сражении под Сиеной, понесли немало потерь и вот видели теперь перед собой врага. Они вошли во двор, стали что-то кричать и махать ружьями у меня перед носом. Казалось, что они меня сейчас расстреляют. Но тут их окликнул один из раненых алжирцев. Солдаты подбежали к нему, и он тихо зашептал им что-то. И когда солдаты вернулись, я заметил, что их настроение изменилось. Один извлек из железного портсигара какую-то совершенно чудовищную вонючую сигарету и заставил меня ее выкурить — в знак дружбы.
К девяти утра весь город уже был занят французами. Их восторженно и шумно приветствовали высыпавшие на улицы толпы итальянцев, девушки посылали воздушные поцелуи. Я же оставался здесь, во дворе, под присмотром моих дружелюбных тюремщиков.
Затем появился майор французской армии. Он немного говорил по-английски; я — тоже, так что мы могли объясниться. Я сказал, что являюсь немецким хирургом, что исполнял здесь свои обязанности, что среди моих пациентов были и союзники, в том числе французы. Он походил среди лежавших на земле раненых, нашел среди них человек двадцать своих соотечественников, а также солдат британской и американской союзнических армий и выбежал со двора, взывая о помощи. Через час всех раненых забрали и поместили в почти опустевший к тому времени главный госпиталь. Осталось лишь несколько совсем нетранспортабельных немцев. Я пошел с ними.
Меня держали в комнате старшей медсестры под прицелом, пока французский военный хирург в звании полковника осматривал моих раненых, всех, по очереди. К этому времени все они уже лежали на чистых простынях, а целые отряды медсестер-итальянок обмывали им лица губкой и кормили с ложечек бульоном и другой легкой пищей.