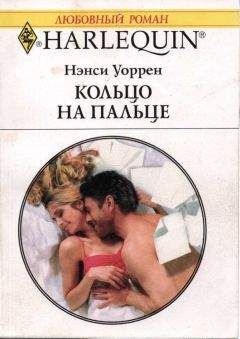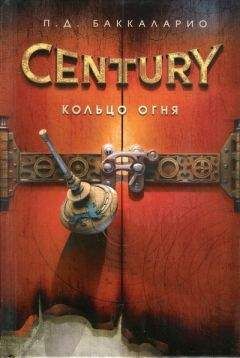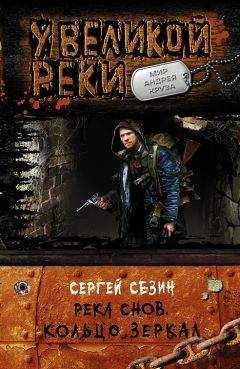Наталия Ломовская - Кольцо предназначения
Глава 23
Заметим, Вера помогала сопернице, чем могла. Она словно нарочно опускалась все ниже и ниже, она перестала быть похожей на ту красивую, неуверенную в себе барышню, какой Анжелика впервые увидела ее. За короткое время – от летних знойных дней до декабрьских студеных судорог – она превратилась в... В ничтожество, вот! О ней нечего было сказать, с ней невозможно было дружить, на нее посмотреть было нельзя без ужаса! А Вера еще недоумевала, еще звонила своей подружке Саше Геллер, приглашала в гости, делилась убогими новостями, плебейскими размышлениями! Неужели она ничего не понимает?
От Ярослава Алексеевича, папаши разгульного, тоже вышла Анжелике большая польза. Тот на время приостановил пьянство и разгул, стыдился взрослой дочери. Трезвость пошла ему на пользу и на многое открыла глаза. Предвыборная кампания гикнула, свистнула и провалилась. Депутатское кресло и депутатский мандат Лапутину не достались. Мало того, выяснилось, что дела его детища, строительной компании «Обол», крайне запутаны, сам хозяин в долгах как в шелках, недовольство обманутых горожан растет, а Фатеев отказал в милостях своему Реставратору.
– Они меня везде найдут, – потерянно шептал бывший начальник стройконторы. – Найдут и...
Дальше его фантазия не шла, и он потерянно смотрел на Анжелику.
– Тебе нужно уехать на время. Спрятаться. Скрыться. Подписки о невыезде с тебя никто пока не брал.
– Куда ехать? Говорю же, везде найдут!
– Да, если ехать в Ниццу или в Лондон. Там найдут. А вот в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...
– Мы и так в самой глуши живем. Дальше только Сибирь. Хотя есть у меня имение... Леса мордовские, глухие, дом в самой чащобе стоит, ни пути к нему, ни дороги. И никто не знает про него...
* * *Дом в глухих мордовских лесах купил Ярослав Алексеевич три года назад. Имел Лапутин особый вкус и интерес к охоте и вот зимой как-то собрался побродить по чащобе с ружьем и приятелем-лесником. Да и один дружок увязался. Еще с комсомольских времен знакомы были, вместе на собраниях митинговали. Тоже рубаха-парень, гулена Витька Трубников. За лишнее жизнелюбие и отправили его в глухомань курировать местную газетенку в один лист. Он сначала поубивался, а потом привык, женился, обзавелся домом и стал страстным охотником. К нему в гости в захудалый городишко Верхонск и ездил Ярослав Алексеевич почти каждую зиму. Били зайцев, и кабаны, бывало, попадались. Вечерами пили вместе сладкий изюмный самогон, закусывали добытой дичью. Жена Трубникова, простая баба Надюха, то ли мордовка, то ли чувашка, ходила неслышными шагами, говорила шепотом, готовила так, что язык проглотишь! Тогда, три года назад, зима выдалась бесснежная, охота – удачная. Побелевшие не ко времени зайцы сами охотникам под ноги кидались. Забрели далеко в глушь, куда по зиме никогда не пробраться без лыж, да и на лыжах раньше не доходили.
– Оп-па! Сергеич, а эт что такое? – присвистнул Трубников.
Сергеич посмотрел из-под руки, точно не в лесу глухом они стояли, а в чистом поле.
– Эк забрели мы... Давно я тут не был. Глухое место. Марьяшкина пустошь.
– Никогда не слыхал, – пожал плечами Трубников.
– Да ну? Помнишь, в позапрошлом году сыночка мэра нашего мертвым нашли? Тут.
– Это, значит, Филип Иваныча вотчина?
– Да как тебе сказать... Он, как сына схоронил, наотрез от дома отказался. И видеть, грит, не хочу, и не поминайте при мне. Так, поди, и стоит заброшенный...
– Мужики, а о чем речь? Что за дом? – встрял Ярослав Алексеевич. Вместо ответа Сергеич махнул рукой в прогал между вековечными стволами, и у Лапутина словно глаза промылись. Только что не было ничего, не мелькали краснокирпичные стены в просветы, и вдруг – вот он стоит на поляне. В один этаж, с мансардой и верандочкой, аккуратный, веселый домик.
– Залюбовался, Ярослав Алексеич? Да-а, дом – не дом, а конфетка с мармеладом! Только нехорошее это место, Марьяшкины хоромы, и много людей тут головы сложили...
– Ишь ты. Вроде легенды тут у вас, значит?
– Вроде того. Пошли, стемнеет скоро.
– Ну вечером-то расскажешь?
– Хошь – расскажу...
Но прежде чем приступить к рассказу, распаренный от печного тепла, от самогоночки и сытного ужина Сергеич долго мялся и отнекивался.
– Дело темное... Все говорят – кто с этим домом свяжется, тому беды не миновать. Он тут спокон веков стоит, и отец мой про него говорил, и дед. Горел сколько раз, а все кто-то находился, отстраивал на старом фундаменте заново и жил в нем – до беды. Фундамент у него креп-кай, на крови, говорят, строили.
– Это как храм Спаса-на-Крови?
– Ну, про Спаса я не знаю. Мало тут спасительного. Дед говорил, при нем еще старые люди рассказывали, что палаты каменные сам Стенька Разин для своей любовницы построил. Цыганка, красавица, звали ее Марьяна. И была она, как все цыганки, ведьма...
Глава 24
Она – как языки пламени, пляшущие в ночи. Очень худая, очень смуглая и ростом не больше воробья. Остро выпирающие груди, острые подвздошные и бедренные кости, выступающий живот делали ее похожей на подростка. Но она не была подростком. В полуприкрытых коричневыми веками, непроглядно-черных глазах жило незапамятное знание, непроглядная тьма прошлого, и полыхали в них красные всполохи древних войн, пожаров, кровопролитий... Некрасива была Марьяна, не чета всем тем белым лебедушкам и сизым голубкам, что на трудном своем пути приласкивал Стенька... Но страшная сила женского таилась в ней, страшная сила жила в складках красно-сизых губ, в изломах – не изгибах – тела, и пела она гортанными вскриками на чужом языке чужие, ядовитые и сладкие, как мед диких пчел, песни. И зачаровала Марьяна Стеньку, и говорили про нее, что она варила в полнолуние приворотное зелье из кладбищенской земли и опоила им атамана. Так ли, не так ли? Никто не знал. Но не было нужды Марьяне в омерзительном взваре, она и сама, силами своими, могла притянуть к себе кого хотела.
Характером отличалась неровным – то весела, плясала, как змея, звеня тяжелыми золотыми монистами, распускала черно-синие пряди и смеялась жгучим смехом. Порой грустила, молчала, и грусть мгновенно вспыхивала злобой – тогда визжала по-кошачьи и кидалась с когтями на каждого, кто слово против говорил, причем метила в глаза. Справиться с ней не мог сам атаман в такие минуты, отворачивался и уходил, морща лицо, словно зубная боль одолела. Только тихий Фролка, бывший поп, расстриженный за пьянство, умел говорить с ней, и она притихала, блестела глазами из-под ночных ресниц и шипела сквозь плотно сомкнутые губы невнятные жалобы. А на что она жаловалась, чего хотела – того никто понять не мог. Не дорожила цыганка деньгами, не любовалась заморскими тканями, драгоценными камнями, ничего для себя не хотела и знала только свои дикие пляски, и дикую злобу, и дикую любовь. И так она была люба атаману, что окрутился он с ней по христианскому закону. Не расстрига Фролка, а самонастоящий священник венчал их – в настоящем храме в Царицыне. А свадебным подарком молодой жене стал сундук с невиданной красоты уборами из золота и камней дорогих. Но из всех драгоценностей выбрала и носила Марьяна одно кольцо, самое невзрачное.