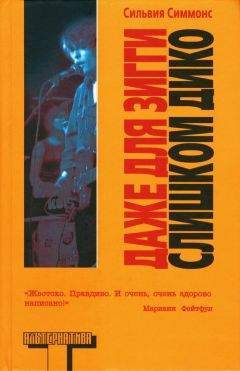Дэн Симмонс - Песнь Кали
До рождения Виктории я имел обыкновение выражать недовольство теми нашими знакомыми парами, которые, как мне казалось, отупели после рождения детей. Люди с отточенным интеллектом, прежде наслаждавшиеся вместе с нами нескончаемыми разговорами о политике, прозе, о смерти театра, о закате поэзии, теперь бубнили только о первом зубе своего мальчика или часами делились захватывающими подробностями первого дня маленького Хэзера в подготовительном классе. Я поклялся, что никогда не опущусь до этого.
Но с нашим ребенком все было иначе. Развитие Виктории было достойно самого серьезного изучения. Оказалось, что я совершенно заворожен первыми же издаваемыми ребенком звуками и ее самыми неуклюжими движениями. Даже тягостная процедура смены пеленок могла вызывать самые приятные чувства, когда моя девочка – мой ребенок! – размахивала пухленькими ручками и смотрела на меня с таким выражением, которое я принимал за изъявление любви и оценки по достоинству того, что ее отец – печатающийся поэт – снисходит ради нее до таких мирских забот. Когда в возрасте семи недель она однажды утром одарила нас первой улыбкой, я тут же позвонил Эйбу Бронштейну, чтобы поделиться столь замечательной новостью. Эйб, привычка которого не вставать раньше половины одиннадцатого утра была известна не меньше, чем его чутье на хорошую прозу, поздравил меня и мягко заметил, что на часах всего лишь пять сорок пять.
Теперь Виктории исполнилось уже семь месяцев, и стало еще более очевидно, что ребенок она одаренный. Уже с месяц, как она научилась играть в «козу», а за несколько недель до того освоила прятки. В шесть с половиной месяцев она начала ползать – верный признак высокого интеллекта, хоть Амрита и утверждала обратное,– и меня совершенно не волновало, что при попытках ползти вперед Виктория почему-то неизменно двигалась в противоположном направлении. С каждым днем все отчетливее проявлялись ее лингвистические способности, и хоть мне никак не удавалось выделить из потока звуков «папа» или «мама» (даже когда я прокручивал запись на вдвое меньшей скорости), Амрита уверяла меня с еле заметной улыбкой, что она уже слышала от дочери целые русские и немецкие слова, а однажды даже целую фразу на хинди. А между тем я каждый вечер читал Виктории вслух, перемежая «Сказки матушки Гусыни» Уордсвортом, Китсом и тщательно отобранными отрывками из «Кантос» Паунда. Явное предпочтение она оказывала Паунду.
– Не пойти ли нам спать? – спросила Амрита.– Завтра надо встать пораньше.
Что-то в ее голосе привлекло мое внимание. Иногда она говорила: «Не пойти ли нам спать?», а иногда: «Не пойти ли нам спать?» На этот раз прозвучал второй вариант.
Я отнес Викторию в кроватку и с минуту постоял рядом, наблюдая, как она в окружении мягких игрушек лежит на животике под легким одеяльцем, положив голову на подушечку. Лунный свет падал на нее как благословение.
Потом я спустился, запер двери, выключил свет и вернулся наверх, где Амрита уже ждала меня в постели.
Позже, в заключительные мгновения нашей близости, я повернулся, чтобы заглянуть ей в лицо, как бы пытаясь отыскать там ответ на невысказанные вопросы… Но на луну набежала туча, и все скрылось во внезапно наступившей темноте.
3
В полночь этот город – Диснейленд.
Субрата ЧакравартиВ Калькутту мы прилетели в полночь, зайдя на посадку с юга, со стороны Бенгальского залива.
– Бог ты мой!..– прошептал я, и Амрита перегнулась со своего места, чтобы выглянуть из иллюминатора.
По совету ее родителей мы воспользовались самолетом ВОАС и долетели до Бомбея, чтобы пройти таможенный контроль там. Все шло отлично, но внутренний рейс «Эйр-Индия» до Калькутты был по техническим причинам отложен на три часа. В конце концов нам разрешили подняться на борт, чтобы еще час проторчать рядом с терминалом, в то время как в салоне не работали ни освещение, ни кондиционер, потому что были отсоединены внешние источники питания. Какой-то бизнесмен, сидевший впереди, заметил, что рейс Бомбей—Калькутта задерживается каждый день на протяжении трех недель из-за конфликта между пилотом и бортинженером.
Уже в воздухе мы отклонились от маршрута далеко на юг из-за сильной грозы. Почти весь вечер Виктория вела себя беспокойно, но сейчас спала на руках у матери.
– Бог ты мой,– снова произнес я.
Под нами раскинулись 250 квадратных миль территории Калькутты – море огней после полной темноты заоблачных высот и Бенгальского залива. Во многие города мне приходилось прилетать по ночам, но ничего подобного я еще не видел. Здесь не было привычных правильных рядов электрических огней: Калькутта в полночь светилась бесчисленными фонарями, открытым огнем и странным неярким сиянием, исходившим из тысяч невидимых источников и напоминавшим фосфоресцирующие грибы. Вместо пересекающихся прямых линий упорядоченной городской планировки – с улицами, шоссе, автостоянками – мириады хаотически разбросанных огней Калькутты были перемешаны в беспорядочную кучу и походили на некое созвездие, разорванное лишь темным изгибом реки. Мне представилось, что именно такими – горящими – во время войны выглядели Лондон или Берлин в глазах потрясенных экипажей бомбардировщиков.
Потом колеса коснулись земли, в прохладный салон ворвался насыщенный влагой воздух и мы вышли, став частью шаркающей компании, бредущей к багажному отделению. Аэропорт был небольшим и грязным. Несмотря на позднее время, повсюду сновали шумные скопища потных людей.
– А нас никто не должен встретить? – спросила Амрита.
– Должен,– ответил я, выхватывая четыре сумки с потрепанной ленты транспортера.
Мы встали рядом с ними, в то время как толпа накатывала и откатывалась, подобно приливным волнам. От мужчин в белых рубашках и женщин в сари, сгрудившихся в небольшом здании, исходили импульсы какой-то истерии.
– Морроу связался с Союзом бенгальских писателей. Была договоренность, что некто по имени Майкл Леонард Чаттерджи отвезет нас в отель. Но мы задержались на несколько часов. Наверное, он уже уехал домой. Я попробую найти такси.
Бросив взгляд в сторону выхода, я увидел, что он забит толкающимися, орущими людьми и остался рядом с сумками.
– Мистер и миссис Лущак. Роберт Лущак?
– Лузак,– машинально поправил я.– Да, я Роберт Лузак.
Я оглядел человека, который пробился к нам. Он был высок, худощав, в грязно-коричневых штанах и белой рубашке, казавшейся серой и не слишком чистой при зеленоватом флуоресцентном освещении. Внешне он выглядел довольно молодо – где-то под тридцать, пожалуй. Гладко выбрит, но черные волосы торчали огромными наэлектризованными пучками, а пронзительный взгляд темных глаз производил впечатление такой силы, что это граничило с ощущением сдерживаемой страсти к насилию. Его темные густые брови почти срослись над хищным ястребиным носом. Отступив на полшага, я поставил сумку, чтобы освободить правую руку.