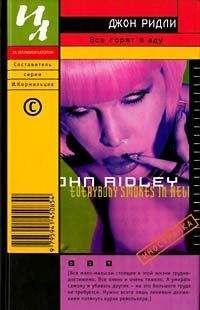Александра Лосева - ДОМ ПОЛНОЛУНИЯ
Темнота. Спасительная темнота. Просто темнота. За окнами волнуется туман. Дверь закрыта, окно тоже. Ничего. Это просто кошмар. Я закрыл глаза. Надо постараться уснуть.
Запах сигарет. Я уже почти провалился в сон, когда почувствовал его, а вместе с ним пришел ужас, но ненадолго. Запах сигарет, дым, а может быть, туман, струящийся, сплетающийся в кольца, словно ловкие белые змеи. Я открыл глаза.
Комната тонула в тумане. Я не заметил, когда он заполнил ее доверху. Теперь не было ничего: ни пола, ни потолка, ни стен, ни окна. Я лежал на дне туманного моря. Куда-то пропал страх. Теперь мне было все равно. Я лежал, убаюканный холодными струями, а в голове у меня плескался сигаретный дым. Когда это, наконец, случилось, оказалось совсем не страшно. Все равно. Я бессилен что-либо изменить, я не могу двигаться. Даже думать не могу. Все как-то растекается, проскальзывает между пальцами, и не остается ничего, кроме тумана и сигаретного дыма.
Когда чьи-то руки коснулись меня, я уже не испугался. Они были холодными и безжалостными, но нежными, бесконечно нежными и желанными. Я не сопротивлялся – не мог, да уже и не хотел. Нежность, ледяная, чужая, выворачивающая наизнанку, заставляющая стонать и извиваться, не то от боли, не то от удовольствия, поглотила меня. И нет уже тела, осталась только эта сладкая боль, какое-то распирающее, щекочущее чувство, которое вот-вот разорвет меня изнутри. Я тонул в нем, захлебывался и хотел, изо всех сил хотел, чтобы это прекратилось немедленно, и в тоже время продолжалось вечно. Я тонул в боли и наслаждении, а перед глазами, бессильными закрыться, полоскался туман, и вот на самом краю, перед тем, как упасть в неизмеримую, зовущую, бесконечно сладкую и смертоносную бездну, я вспомнил – и закричал, и туман стал рваться, и среди его клочьев я разглядел…
Одним прыжком соскочил с кровати, затравленно оглядываясь. Пот стекал по лбу струйками, сердце колотилось. Нащупал топор, прижал к груди. Так спокойнее. Окно было закрыто, из щели между рамой и подоконником торчали тряпки, которые я туда предусмотрительно напихал, спасаясь от холода. Дверь тоже была закрыта. За окнами омерзительно желтело утро. Голова болела, как с сурового похмелья, ноги слегка подкашивались. Приснится же такое. Я с опаской потянул носом воздух. Пахло плесенью. Никакого дыма. Приснится же. Надо умыться.
Я вышел из комнаты и, пошатываясь, побрел в душевую. Дверь туда была чуть приоткрыта, но я не обратил внимания. Внутри меня встретил запах. Сигаретный дым – запах был настолько силен, будто здесь курили всю ночь напролет. Я стоял, оцепенев. Я не хочу понимать того, что я сейчас увидел. Я не хочу этого видеть, пусть это будет еще один кошмарный сон, пусть я сейчас проснусь, пусть, пусть… Я не могу это видеть…
На дальней кафельной стене, той, под которой стоит бочка, были слова. Крупные корявые буквы, выведенные чем-то бурым, сочащимся – ДОРОГОЙ МОЙ. Вместо точки после последнего слова – вбитый в стену ржавый гвоздь, а на нем насажено растерзанное, раздавленное, впечатанное в кафель тельце Вильяма, и от него по этому белому кафелю – паутинка засохших бурых струек. Кровь.
Я скорчился на полу. Я плакал, впервые за много, много дней, поверженный, отчаявшийся, опустевший. Она прошла мимо меня, невидимая, только в лицо пахнуло холодом и подвалом, и там, где она ступала, из пустоты возникали облачка то ли пыли, то ли тумана. Она вышла в коридор. Теперь она уйдет, я знаю, уйдет, чтобы вернуться, когда ей вздумается, а я снова буду бессилен хоть что-нибудь изменить. Я валялся на каменном полу и плакал.
* * *
– Ты меня не возьмешь, – сказал я и поднялся с пола. Все болело, но это уже безразлично. – Ты меня не возьмешь, – и вышел из душевой, оставляя за спиной Вильяма, распятого на стене. Теперь все просто. Все так просто. Я больше не буду бояться, больше не буду прятаться. Я устал умирать каждый день.
Я шел по коридору, а Дом встречал меня болтовней радиоточек и шорохом газет. Ничего. Теперь мне уже ничего не жалко, да и что я, в сущности, оставляю? Бесконечное одиночество дней, давящий страх, само существо Дома – я не буду о вас жалеть. Я не буду вас вспоминать. У меня и так нет памяти – велика ли потеря, если я забуду и это. А вечных мук все равно нет – отмеренный мне ад я пережил здесь.
Выбрался на крышу. Там был ветер, холодный и сильный, он свистел, дребезжа прутьями антенн. Теперь мне все равно. Я старался ступать твердо, но ноги все равно подкашивались. Десять шагов до края были вечностью, и каждую секунду этой вечности я хватался за свое прошлое, пытался вспомнить, что же может меня удержать здесь, на осклизлом краю крыши, делать очередной шаг было мучительно тяжело. Ничего. Вспоминались коридоры, подвалы, Черная Свадьба. Мне даже прощаться не с чем. Ну и пусть. Кто-то ведь должен упасть. Значит, по закону равновесия, кто-то где-то будет жить долго и счастливо. Я балансировал на самом краю, и в лицо мне дул холодный зимний ветер. Скоро будет снег. Кто знает, может быть, перед самой землей я научусь летать. Никто меня здесь и не вспомнит. Значит, все счета оплачены. Все, Дом, я выхожу из игры. Пусто мне, пусто. Как пусто. Хоть бы я тебя ненавидел, легче было бы. А так ведь ничего нет. Совсем нет. Я терял себя по частям и вот, кажется, совсем растерял.
Последний шаг получился сам собой. Я хотел встать поудобнее, оступился и полетел. Все получилось так, как я представлял. Я не закрывал глаз. Все-таки это очень страшно – видеть гибель своего тела. Я падал, мимо проносились этажи, серые стены Дома, в лицо хлестал ветер, и я закричал, потому что очень страшно – и больше ничего. Не жалко, но страшно, и глупая, сумасшедшая мысль – а вдруг все обойдется? Вдруг я удачно упаду, и все обойдется?
В глаза мне летела земля, увеличиваясь с каждым мгновением, заполняя собой все, и я разглядел ржавые штыри арматуры, готовые встретить меня. Сейчас все закончится. Перед самой землей я закрыл глаза.
Удар. Потом темнота и боль.
Темнота затягивалась, боль не проходила, и вдруг я понял, что могу открыть глаза, более того, я ощущаю свое тело. Оно болит, но я им вполне владею. Я полежал еще немного, потом разлепил веки. Тусклый электрический свет отражался от кафельных стен.
Я лежал лицом вниз на скользком грязном полу душевой. Из разбитого носа натекла лужица крови. Болело ушибленное колено. Пахло помоями. Я сел на пол, обернулся. За моей спиной стоял унитаз, а на его краю четко отпечатались следы моих грязных подошв. Оттуда, значит, я прыгал. Смешно.
* * *
Я вернулся к себе. Дом встретил мое возвращение равнодушным сквозняком и гулким эхом. Я возвращаюсь к себе, чтобы все продолжить. Все будет, как прежде. Я пинал носком ботинка шелестящие газеты, слушал шумы и шорохи. Кажется, теперь это навечно. Он меня никогда не отпустит, надо было раньше догадаться.