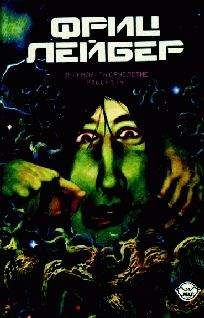Глен Хиршберг - Два Сэма: Истории о призраках
— Вырезать, — механически повторил я, точно во сне.
— Когда он голодал... Когда он.... Просыпался от собственного крика. Когда ему приходилось видеть детей... Тела, болтавшиеся на виселицах... Пока первые вороны не слетались выклевывать им глаза. Когда шел снег и... Нам приходилось идти... Босыми... Или оставаться на улице всю ночь. Этот цыган вырезал...
Снова глаза моего деда вздулись в глазницах, как будто готовые взорваться. Снова раздался кашель, сотрясающий его так, что он едва не падал с кресла. И снова он заставил свое тело успокоиться.
— Подожди, — хватал он ртом воздух. — Ты подождешь. Ты должен.
Я ждал. Что мне еще оставалось делать?
После долгой паузы он произнес:
— ...Двух маленьких девочек.
Я в изумлении уставился на него. Его слова обвивали меня, точно нити кокона.
— Что?
— Слушай. Две девочки. Схожие до неразличимости. Вот что... цыган... вырезал.
Смутно, той частью сознания, что оставалась не вовлеченной в это, я удивился, как кто-то мог говорить, что две фигурки, вырезанные бог знает из чего заточенным краем пуговицы, — это две одинаковые девочки. Но мой дед кивнул.
— Даже в самом конце. Даже в Хелмно. В лесах. В те моменты... Когда мы не копали, а... Сидели. Он шел прямо к деревьям. Клал на них ладони, словно они были теплыми, и плакал. В первый раз за всю войну. Несмотря на то, что мы видели. На все, что мы знали... Он не плакал до того момента. Когда он вернулся, у него на руках... Были полосы от сосновой коры на ладонях. И когда все остальные спали... Или мерзли... Или умирали... Он работал. Всю ночь. Под деревьями.
Каждые несколько часов... прибывали новые партии. Людей, ты понимаешь? Евреев. Мы слышали поезда. Потом видели их... Меж стволов деревьев. Худые. Ужасные. Похожие на ходячие ветки. Когда немцы... Начали стрелять... Они падали без единого звука. Хлоп-хлоп-хлоп из автоматов. Потом — тишина. Эти существа, лежащие среди листвы. В сырой грязи.
Просто убивать было скучно... для фашистов, конечно. Они заставляли нас сбрасывать тела.... В ямы, прямо руками. Потом закапывать их. Руками или рыть землю ртами. Рыть ртами. Грязь и кровь. Клочья человеческого тела в твоих зубах. Многие из нас ложились наземь. Умирали на земле. Немцы не должны были... приказывать это нам. Мы просто... Сталкивали все мертвое... В ближайшую яму. Не было никаких молитв. Не было последнего взгляда, чтобы посмотреть, кто это был. Это был никто. Ты понимаешь? Никто. Могильщики и мертвецы. Никакой разницы.
И все-таки каждую ночь этот цыган вырезал.
К рассвету... На новой партии... Немцы пробовали... Что-нибудь новое. Раздевали всю партию... Потом выстраивали их... На краю ямы... По двадцать—тридцать сразу. Потом стреляли на спор. Простреливали тело. Стараясь, чтобы оно... Разваливалось пополам... Прежде чем упадет. Распахнувшись, точно цветок.
Весь следующий день. И всю следующую ночь. Копали. Ждали. Вырезали. Убивали. Хоронили. Снова и снова. Наконец я разозлился. Не на немцев. За что? Злиться на людей... За убийства... За жестокость... Словно сердиться на лед за то, что он замораживает. Этого... Следует ожидать. И вот я разозлился... на деревья. За то, что они стояли там. За то, что были зелеными и живыми. За то, что не падали, когда пули в них попадали.
Я начал... Кричать. Пытался. На иврите. По-польски. Немцы посмотрели на меня, и я понял, что они не будут в меня стрелять. Вместо этого они смеялись. Один начал хлопать. Ритмически. Понимаешь?
Каким-то образом мой дед поднял свои слабые руки, оторвав их от ручек кресла, и соединил. Они встретились с хрустом, как две высохшие ветки.
— Этот цыган... Только смотрел. И плакал. И... Кивал...
Все это время глаза деда, казалось, набухали, словно в его тело было закачано слишком много воздуха. Но сейчас воздух вырвался из него, и его глаза погасли, и веки опустились. Я подумал, что он снова уснул, как это было прошлой ночью. Но я все еще не мог пошевелиться. Смутно я понимал, что пот, покрывший мое тело за день, остыл на коже, и я мерз.
Веки деда открылись, совсем чуть-чуть. Казалось, он подсматривает за мной изнутри своего тела или гроба.
— Я не понимаю, как цыган узнал... Что это уже конец. Что настала пора. Может быть, просто потому, что... Проходили часы... По полдня... Между партиями. Мир становился... Тише. Мы. Немцы. Деревья. Трупы. Были места и по-хуже, я думаю... Если бы не этот запах. Может быть, я спал. Да, должно быть, потому что цыган потряс меня... За плечо. Потом протянул то, что, он сделал. Он заставлял это... Раскачиваться... фигурка двигалась. Туда и сюда. Вверх и вниз.
Мой рот открылся, и челюсть отвисла. Я стал камнем, песком и ветром, проносившимся сквозь меня и ничего от меня не оставлявшим.
— «Жизнь», — сказал мне цыган по-польски. Первые слова по-польски, которые я от него услышал. — «Жизнь. Понимаешь?» — Я покачал... Головой. Он повторил снова: «Жизнь». И тогда... Я не знаю, как... Но я и правда... Понял. Я спросил его... «Так ты?..» Он достал... из карманов... Двух девочек, держащихся за руки. Я не замечал... Эти руки прежде. И я понял. «Мои девочки, — сказал он снова по-польски. — Дым. Их нет больше. Пять лет назад». Это я тоже понял. Я взял у него фигурку. Мы ждали. Спали бок о бок. В последний раз. Потом пришли фашисты. Они поставили нас. Нас было пятнадцать. Может, меньше. Они что-то сказали. По-немецки. Никто из нас не знал немецкого. Но для меня... В конце концов... Эта команда значила... надо бежать! Цыган... Просто стоял там. Умер на месте. Под деревьями. Остальные... Я не знаю. Немцы, которые поймали меня... Смеялись... Мальчишка. Немного... Постарше тебя. Он смеялся. Нелепый со своим автоматом. Слишком большим для него. Я посмотрел на свою руку. Державшую... Фигурку. Деревянного человечка. Я понял, что кричу: «Жизнь!» Вместо «Шема!» «Жизнь!». Потом немцы попали мне в голову. Бах.
И вместе с этим последним словом дед откинулся назад и замер.
Он почти сполз со своего кресла. Мое оцепенение продлилось еще несколько мгновений, и потом я замахал руками, словно мог отогнать от себя рассказанное им, и так был занят этим, что сперва даже не заметил, как тело моего деда, судорожно выгнувшись, напряглось и забилось в конвульсиях. Жалобно заныв, я опустил руки, но к тому моменту спазм миновал, и дед склонился глубоко вперед и не шевелился.
— Люси! — изо всех сил завопил я, но она уже успела выйти из дома и с трудом вываливала деда из инвалидного кресла прямо на землю.
Ее голова резко склонилась над его лицом, когда она сорвала с него кислородную маску, но прежде чем их губы соприкоснулись, дед закашлял, и Люси с рыданием откинулась назад, на спину, натягивая маску ему на рот.