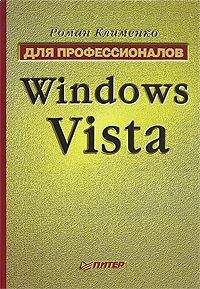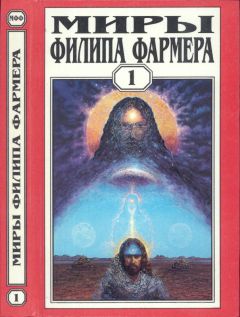Ольга Михайлова - Гибельнве боги
Джустиниани кивнул и тяжело вздохнул. Ему было неприятно, что старуха вслед за Альдобрандини приписывает его успех у женщин чарам. Неужто он не может понравиться сам? На душе его стало мерзко. Мерзок был Петторанелло, сугубо мерзок был Рокальмуто, оказавшийся запредельным подонком, омерзительна была и баронесса Леркари, абсолютно не различавшая добра и зла. Он резко поднялся, слегка ударил рукой по крышке ларца: «Откройся, дрянь», пробормотал он, и крышка распахнулась. Он сразу нашел рыжую куклу, захлопнул ларец и протянул вольт ошеломленной старухе, бормотавшей: «Solo Eriditiera, solo Eriditiera…» Ему же больше всего хотелось остаться в одиночестве.
Старуха схватила вольт и прошептала.
— Вы… отпускаете меня?
Джустиниани молча кивнул.
— Но вы должны сказать: «Волей сатаны отпускаю тебя».
Винченцо побледнел, чувствуя в груди ледяное бешенство.
— Что?? Я божественно свободен! Мне плевать на волю сатаны! Своей волей я отпускаю вас… — он замер, ибо с уст готово было сорваться бранное слово. — Исчезните. И не болтайте об этом! — крикнул он вслед старухе, и без того, в общем-то, уверенный, что она не проговорится.
Старуха опрометью, прижимая к себе куклу, выскочила за порог и исчезла в начинавших сгущаться сумерках.
Джустиниани опустился в кресло, спрятал лицо в ладонях. Ему хотелось плакать, да не выходило. Грудь его несколько минут сотрясало, он что-то тихо бормотал себе под нос. Горечь от понимания, что старуха может быть и права, приписывая ему колдовское обаяние, быстро улетучилась. Бог с ними, с дамами, но сказанное о Рокальмуто и Петторанелло шокировало его до нервной оторопи. У него не было сестер, но как же можно-то? Исчадья ада… Господи, как это происходит, что душа погружается в такие бездны мерзости? Опьяненные грехом — сыновья ночи и тьмы, и они не могут отрезвиться от этого пьянства ничем…
Воистину, нет ничего страшнее человека, у всякого, имеющего силы думать о человеке, начинает кружиться голова. Размышления эти тягостны для ангельских умов, скорбны и для херувимских сердец. Ему нигде нет предела. Если же он и имеется, то этот предел — беспредельность. Где границы человеческого существа? Что есть человек? Мешок кровавой грязи, и в нем — закваска всех бесконечностей. Возводя себя на высоту, человек исчезает в божественной беспредельности, низводя себя в пучину, тонет в демонических безднах. Человек… Нет более естественного принципа: будьте совершенны, как Бог! И нет более страшной реальности, чем влюбленность человека во зло и в пучины греха… Грех постепенно умаляет душу, стирает ее в смерть, претворяет из непреходящей в бренную. Чем больше грехов, тем человек более смертен, он весь в недалеких мыслях, в пустых и блудных ощущениях, в жутких, леденящих кровь, деяниях…
Джустиниани чувствовал себя усталым и больным. Завтра он развезет всю эту дрянь ее владельцам и уедет… в Иерусалим… в Бари… куда-нибудь.
«Дьявольские дары не даются тому, кто уже принадлежит сатане…» «Это Богу нужна ваша вера. Дьявол в ней не нуждается…» «Дьявольские миражи, утверждает Альберт в Комментариях на сентенции, результат его господства над формами, но не над сущностью вещей…» Обрывки услышанных фраз роились в нем, как пчелы, убаюкивая и усыпляя.
Веки его слиплись, и Джустиниани в бессилии откинулся на спинку кресла.
Глава 8. Гроза
На скользких путях поставил Ты их,
и низвергаешь их в пропасти.
Как нечаянно пришли они в разорение,
исчезли, погибли от ужасов!
Пс.72.18Дон-дон-дон… Часы мерно отбивали время. Джустиниани проснулся в гостиной и резко поднялся. Тело его затекло, а перед глазами мелко искрились какие-то крохотные серебристые искорки, разлетаясь, как мошки. Он потряс головой, чтобы прогнать чертову мошкару, и тут ощутил слабое головокружение. За окном было темно, из столовой доносились ароматы снеди. В зал робко заглянул слуга. Луиджи всё ещё не мог простить себе, что подвёл господина, и, застав того после визита донны Леркари спящим, не осмелился будить. Теперь он тихо доложил, что ужин подан. Джустиниани не чувствовал голода, помнил, что собирался поехать с наследством Джанпаоло к Массерано, Чиньоло и прочим, но, схватив ларец и выйдя в столовую, остановился. Аромат пирога с ревенем был божественным, и Джустиниани подумал, что полчаса ничего не решают — в принципе, избавиться от содержимого чертового ларца можно и завтра утром.
Аппетит проснулся неожиданно, тем более Джустиниани вспомнил, что он не обедал. В столовой появилась Джованна, давно поужинавшая, взяла со стола забытую книгу и молча удалилась, по крайней мере, не хлопнув дверью.
По окончании ужина, он решил все же съездить к Массерано, жившему неподалеку, велел закладывать, но тут Луиджи вновь доложил о визитере. На пороге залы уже стоял пожилой человек с встревоженными глазами и высоким лбом с поперечными морщинами. Джустиниани подумал, что где-то видел его, а стоило Луиджи представить его как Микеле Одескальчи, Винченцо вспомнил, что тот увозил дочь после вечера у Чиньоло. Ему было далеко за шестьдесят, Джустиниани слышал, что он поздно женился, и имеет только одну дочь. Слышал и о его слабом сердце. Сейчас старик был бледен.
— Простите, мессир, а… Джованна… Ваша воспитанница… она дома?
Джустиниани удивился, но бросил быстрый взгляд на Луиджи, тот понял и исчез.
— Да, сейчас ее позовут. Но что случилось?
Старик, прислонясь к двери, тяжело дышал и, кажется, просто не услышал Винченцо. Джованна спустилась быстро, перескакивая через ступени.
— Мессир Микеле?
— Джованна… Вы… вы не видели Катарину? Не договаривались встретиться? Она к пяти ушла к портнихе на примерку, но ее до сих пор нет. Я был у мадам Леже, но она сказала, что Катарина давно ушла. Я думал, она у вас.
Джованна на мгновение растерялась, но тут же предположила, что подруга у Елены Аньелли, однако мессир Одескальчи покачал головой. Он уже был в доме Вирджилио Массерано, Катарина там не появлялась.
Джустиниани медленно поднялся, остановился у стола, ибо почувствовал слабость в ногах. «…Пинелло-Лючиани и молодые адепты пытались заискивать перед Князем мира сего, но — не вышло, Петторанелло совратил свою сестрицу — но инцест ничего не дал. Рокальмуто принес в качестве жертвы свою сестрицу — но бедняжка Франческа, оставленная в подземелье, просто сошла с ума, но толку не было. Сейчас Боргезе пытается…»
Он тогда не дослушал, не придал значения этой фразе, но сейчас она проступила во всей своей убийственной чёткости. Джустиниани помнил о предположении Тентуччи, что Боргезе влюблен в Катарину, но сам он, зная дружка, сомневался в этом. Оттавиано мог украсть девицу, обесчестить ее ради пятидесяти тысяч приданого. Это было мерзостью, но сам Джустиниани опасался худшего. Он бросил взгляд на календарь. 19 мая. На часах было десять с четвертью.