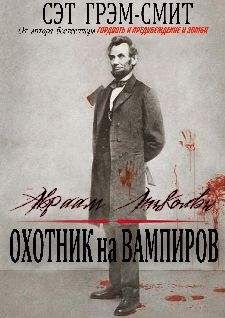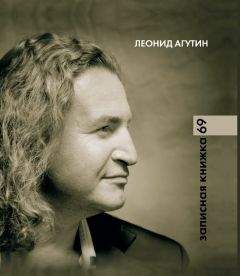Сет Грэм-Смит - Президент Линкольн: охотник на вампиров
Ошибка дорого нам обошлась, Эйб. Макдауэлл отбросил притворство и обнажил клыки. Джек услышал, как что-то упало на каменный пол. Он посмотрел туда, где только что находился его арбалет, но не увидел ни оружия, ни своей руки. Он побледнел: из запястья хлестала кровь, а оторванная кисть валялась на полу.
От воплей Джека могли бы проснуться даже полумертвые жертвы на полках.
Мне пришлось выскочить из укрытия и выстрелить вампиру в голову. Но не стоило полагаться на дрожащие руки. Пуля прошла мимо кровопийцы и попала в его драгоценные стеклянные сосуды! Эйб, вообрази, какой раздался грохот! На каменный пол хлынули потоки крови. Я чуть не утонул. Система оказалась настолько хрупкой, что от одного выстрела разлетелись все трубки под потолком, и мне на голову пролился кровавый дождь.
«Нет! — закричал Макдауэлл. — Ты все погубил!»
Не помню, как он кинулся на меня. Знаю только, что вампир отшвырнул меня на полки с телами так сильно, что я сломал правую ногу. Страшнее боли мне испытывать не доводилось — даже тогда, когда вампир избивал меня в Фармингтоне. Мне было холодно. Помню, что Макдауэлл (точнее, целых два Макдауэлла, поскольку от удара у меня двоилось в глазах) приблизился ко мне. Я беспомощно лежал и не мог подняться. Пол весь покрылся кровью. Помню, что мне в голову пришла странная, забавная даже мысль, что покойницкая — вполне подходящее место для гибели, не хуже любого другого… Сверху лилась теплая жидкость… Я чувствовал ее вкус… И тут Макдауэлл неожиданно схватился за лицо.
Наконечник стрелы вышел у него под правым глазом! Древко торчало из затылка. За спиной вампира стоял тупоголовый бык и сжимал арбалет в трясущейся здоровой руке.
Лицо вампира было залито противоестественным количеством крови (что удачно дополняло и без того чудовищную сцену). Макдауэлл испугался и сбежал.[30]
Слава богу, мы находились всего в двух шагах от лучшей больницы в Сент-Луисе. Мы с Армстронгом помогли друг другу вскарабкаться по ступенькам (я опирался на здоровую ногу и нес его отрезанную руку). Оба мы с головы до ног перепачкались в крови двух десятков людей.
Хирурги сумели спасти Джеку жизнь, Эйб, но он навсегда лишился руки. Смерть подошла к нему близко, ближе, чем он согласится признать. Его выручила сила. Сила да еще молитвы, которые ты, без сомнения, обращал к Богу. Я останусь с Армстронгом, пока он не поправится (хоть он и отказывается со мной разговаривать). Мне сказали, что нога восстановится и даже если я и буду хромать, то совсем немного. Друг, не печалься из-за верного Спида — он почитает себя самым везучим дураком на земле.
II
Третьего августа 1846 года Эйба избрали в палату представителей Соединенных Штатов. В декабре 1847-го, спустя почти полтора года после выборов, Авраам с семьей прибыл в Вашингтон, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Линкольны заняли комнатку в пансионе миссис Спригг.[31] Теснота усугублялась наличием четвертого члена семьи.
Благословение вновь осенило нас: 10 марта [1846 г. ] у нас родился мальчик, Эдвард Бейкер, такой же смешливый негодник, как и Боб (хотя характер у него, кажется, мягче). Хоть Эдди и родился вторым, люблю я его ничуть не меньше. Его улыбка совершенно покоряет меня. Я щекочу ему пальчики на ногах, чтобы рассмешить… Нюхаю его волосы, когда он спит… Прижимаю сонного малыша к своей груди. Эти мальчишки вертят отцом как хотят!
На этот раз Эйб не боялся, что сын заболеет или умрет. Он не торговался с Богом (по крайней мере, в дневнике об этом ничего не сказано). Быть может, он уверился в собственных силах. А может, попросту был слишком занят, чтобы переживать. Авраам продолжал следить за процветающей адвокатской практикой в Спрингфилде, приспосабливался к жизни в новом городе и к участившемуся ритму политической активности. Он занимался чем угодно, кроме охоты на вампиров.
Письма [от Генри] приходят каждый месяц. Он просит меня хорошенько подумать. Убеждает снова взяться за его поручения. Каждый раз я отвечаю одной и той же простой истиной: я не хочу оставить жену без мужа, а детей — без отца. Если я и впрямь призван освободить людей от тирании, объясняю я, то должен сделать это в духе старинной пословицы про перо и топор. Мой топор сделал свою работу. В дальнейшем я собираюсь полагаться на перо.
Вашингтон во всех смыслах разочаровал Эйба. Он ожидал увидеть сверкающую столицу, населенную «лучшими умами на службе у избирателей». Однако его встретили «несколько светил в тумане посредственностей». Что же до мечты о жизни в большом городе… Вашингтон, в отличие от Нью-Йорка или Бостона, оказался больше похож на Луисвилль и Лексингтон, хотя и здесь встречались порой чудеса архитектуры. «Пара дворцов посреди прерии», — говаривал Эйб. Строительство монумента Вашингтона еще не началось. Впрочем, ни его, ни Капитолий, не успеют завершить при жизни Линкольна.
Эйба огорчало также огромное количество рабов в столице. Они работали в пансионе миссис Спригг, где Авраам остановился с семьей. Их продавали на улицах, по которым он ходил. Рабов держали в клетках на месте будущей Национальной аллеи, там, где однажды вечное пристанище найдет гигантская статуя самого Линкольна.
Вид из окон Капитолия напоминает платные конюшни. Толпы негров пригоняют сюда, держат некоторое время и наконец развозят по южным рынкам, будто табун лошадей. Людей заковывают в цепи и продают! Здесь, в тени того самого здания, которое было основано во имя идеи «все люди созданы равными»! С криками «дайте мне волю иль дайте мне смерть»! Такого не снести ни одному честному человеку.
Как-то Эйб предложил в Конгрессе билль о запрете рабства в округе Колумбия. Он составил документ таким образом, чтобы «рабовладельцам он не показался слишком жестоким, а аболиционистам — излишне мягким». Но конгрессмен, избранный на свой первый срок, как бы умен он ни был, ничего тут поделать не мог. Билль так и не вынесли на голосование.
Несмотря на законодательные неудачи, Авраам Линкольн производил в залах Конгресса определенное впечатление, и не только благодаря своему росту. Современники называли его «долговязым и нескладным», а также писали, что брюки «были ему коротки чуть ли не на шесть дюймов». Линкольну еще не исполнилось и сорока, но многие демократы (и многие товарищи по партии, виги) прозвали его «Старым Эйбом» за «потрепанный вид и усталый взгляд».