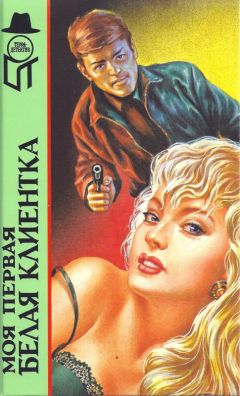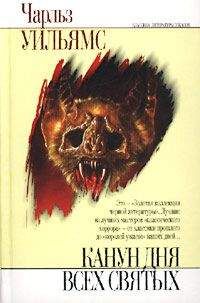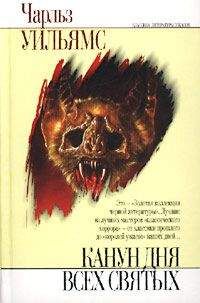Чарльз Уильямс - Тени восторга
Роджер и раньше заметил, что последователи Бессмертного обращаются к нему только по одному христианскому имени (или имени, полученному им в силу заблуждений христианской церкви), частично из любви, частично просто из признания его уникальных способностей, хотя и относятся со всем возможным уважением.
Консидайн вошел с улицы, поздоровался со своими людьми и отдельно — с Роджером и Кейтнессом, с первым — вполне дружески, со вторым — вежливо и прохладно, словно обращался к послу враждебной страны. После приветствий он сказал всем:
— Сегодня мы узнаем новости. Я чувствую.
— Предчувствие? — вежливо поинтересовался Кейтнесс.
— А вы презираете предчувствия? — вопросом на вопрос ответил Консидайн. — Идемте завтракать? Конечно, — продолжил он, когда они расселись за столом, — если вы подразумеваете смутные предчувствия, то ими можно пренебречь. Но если вы чувствуете страну по ее воздуху, неужели вы не чувствуете и ее людей? Всю эту ночь я слышал и чувствовал их, голоса больших городов и маленьких деревень, разговоры, сомнения и ужас. Сегодня рано утром я почувствовал, как все это собирается во мне воедино, одинокие мысли крестьян и решения деловых людей, они колебались, приходя ко мне, они менялись как ветер, но наконец подули в сторону моего духа, как ветер в лицо, и я почуял новости, которые он нес. Зайдлер сдается.
— Вы можете почувствовать всю страну? — воскликнул Роджер.
— Почему нет? — почти весело спросил Консидайн. — Разве вы не чувствовали толпу вокруг своей калитки, когда спасали короля? И вы думаете, мне трудно почувствовать намерения намного большей и намного менее уверенной в себе толпы? Я могу чувствовать Англию, как вы чувствуете английскую поэзию. И я говорю вам: она запросит мира.
— Это менее вероятно, чем то, что вы чувствуете, — сказал священник. — Так легко они не сдадутся.
Роджер почувствовал враждебность в его голосе и вспомнил, что для Кейтнесса человек, сидящий во главе стола, — Верховный Исполнитель, по воле которого были уничтожены христианские миссии. Под пулями врагов пали и священники, и обращенные. Эта мысль отрезвила его. Углубившись в размышления о восторге и воображении, над которым сэр Бернард посмеивался, а он восхищался, он как-то забыл о том, на что способно воображение, поставленное на службу честолюбивым замыслам. В данном случае оно оказалось беспощадным. Оно пощадило Лондон, но скорее ради удобства и из презрения, по милости высшей силы; эстетикой здесь и не пахло. Он без всякой видимой связи припомнил, что Вордсворт — Вордсворт из его сна — ликовал над поражением английских армий — конечно, он называл это истиной, которую мучительно изречь,[57] но Роджер, глядя на Консидайна, простил Вордсворта. Конечно, это была мучительная истина, но истина несомненная. Это не разговоры у камина, а боль и восторг. Спокойный дом убаюкал его, как убаюкивают звуки моря, а ведь в море тонут люди, и утопленники поставляют пищу моллюскам. Какой-то другой, не ноябрьский холод пробрал Роджера, он старался думать, и сквозь него опять промчался Вордсворт с криком: «Да, бойня — имя дочери Твоей».[58] Бойня… бойня… Верховный Исполнитель возглавлял изменчивый мир, а он, следующий его велениям, выходит дело, принимал кровь, проливаемую ради этих перемен. Впрочем, в этом повинны все мужчины в мире. Он отодвинул недоеденный завтрак.
Консидайн говорил.
— Англичане хотят для Африки того, что считают правильным с их точки зрения, но у англичан нет опыта противостояния новым идеям, благополучие — вот все, к чему они стремятся. Общество разделено на социальные слои, и Зайдлер выступит от лица богатых. Я могу купить и богатых. Церковь отвергла светскую власть и стала теперь более христианской, чем когда-либо прежде. Но она построена на поражении, а я выбрал победу. И победа у меня есть. Ингрэм, вы закончили с завтраком? Тогда, — он встал, — пойдемте со мной, мне нужно нанести визит. Мистер Кейтнесс может проведать своего грешника или поразмышлять спокойно где-нибудь в саду. Я потом тоже зайду к Инкамаси. Верекер, смените радиста. Моттре, вы ждете капитана.
Консидайн встал и предложил Роджеру следовать за ним. Они прошли по коридорам и лестницам в левое крыло дома. Пока они шли, Роджер особенно остро чувствовал отъединенность этого дома от остального мира. То же ощущение было у него в холле прошлой ночью. Дом мог быть одним из тех мифических строений, которые в разных легендах поднимали из земли музыкой, как Трою под звуки Аполлоновой арфы… или испарениями преисподней при тихом пенье слитных голосов.[59]
В доме ему не попалось на глаза ни одной картины, стены были завешены мягкими занавесями разных цветов, но каждый цвет был насыщенней, чем любой, виденный им прежде. Гобелены украшали рисунки, в основном орнаменты, хотя иногда попадались изображения людей и крылатых чудищ, а иногда сюжетные сценки на улицах странных поселений. Но Роджер не успевал их толком рассмотреть, а остановиться и взглянуть повнимательнее ему не позволили. Консидайн шел довольно быстро, напевая себе под нос, и Роджер со странной дрожью напомнил себе, что этот могучий человек, так легко и весело шагающий рядом с ним, и есть Верховный Исполнитель африканских восторгов. Вдруг он понял, что напевает Консидайн.
…я заживу. Навек вернувшись в цветы и листву.[60]
— Но ведь это Шекспир! — воскликнул он.
— Да, — кивнул Консидайн. — Вы думаете, Шекспир этого не знал? Ведь вы же читали лекции о «Буре».
— Вы хотите сказать, что Шекспир верил во Вторую Эволюцию Человека… — довольно безрассудно начал Роджер.
— Он представлял его природу, — ответил Консидайн. — Подумайте и почитайте песни Ариэля. Вряд ли вы их сразу поймете. Впрочем, я тоже не все там понимаю. Возможно, никто не поймет — как следует — до окончательной победы над смертью. Он — ваш величайший поэт, потому что никто, кроме него, не жил, не умер и не живет в своих стихах с таким величием. «На нетопыря вскочу»[61] — это чистота, правильный способ существования. Он это представлял. Но это поэзия, а вот здесь и сейчас, — он остановился у дверей комнаты, и его голос стал серьезнее, — проводится физический эксперимент.
Консидайн открыл дверь, и они вошли. За дверью оказалась большая комната с высоким потолком. Здесь постоянно дул легкий нежный ветерок, как весной. Окон Роджер не увидел, хотя, возможно, их скрывали светло-желтые занавеси. Они легонько подрагивали от сквозняка, и Роджеру на мгновение показалось, будто за стенами под нежным ветром волнуются огромные поля нарциссов. Смутное ощущение прошло и оставило по себе мысль о солнце, прозрачном воздухе, пронизанном золотыми лучами, но мысль тут же исчезла, и он понял, что это всего лишь прекрасные занавеси, а сквозь них пробивается какой-то чудесный свет. Посреди комнаты стоял низкий диван, на нем неподвижно лежал человек. В углу на стуле сидел еще один человек. Он встал при их появлении.