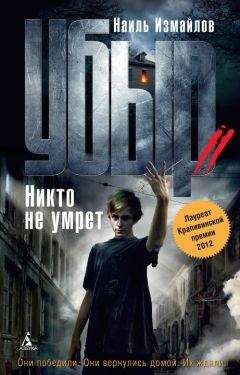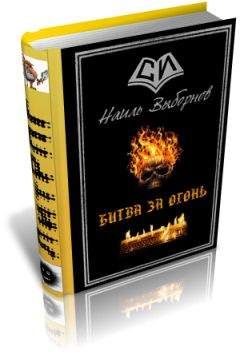Наиль Измайлов - Убыр
А папа почти все время в сознании был, поэтому и мучился так сильно.
Сволочь. Гад. Папку-то за что. Я стиснул кулаки, чтобы удержать жар, прущий из меня во все стороны, и сказал:
– Бабуль. Научи меня.
Она долго не соглашалась. Говорила, что давно разучилась, что неизвестно, кто из меня получится, что я не готов. Ни вообще к учению ее непонятному, ни к тому, кем из этого учения выйду. Говорила – а сама готовилась. Встала, прошлась по комнатке, собирая непонятные штуки по разным кучам. Пару раз обошла меня, всматриваясь в руки и в шею, больно нажала на макушку. Вытащила из-под ведра совсем музейного вида горшок, вытащила другой, цыкнула на меня, чтобы сидел смирно. Сломала прозрачную крышку, которая накрывала горловину горшка и обвязывавшую его тряпку. Принялась кошмарить на тему «как это бо-бо». И вдруг спросила:
– Тетка когда приезжает?
– Какая тетка? – не понял я.
– Беременная тетка.
Я испугался, что бабка мысли читает, но сообразил, что сам, видимо, разболтать успел.
– На той неделе.
– А родители пять дней назад из Лашманлыка приехали?
– Д-да. Вроде.
– Два дня, ну три, а полная луна завтра, – пробормотала она.
Я дернулся и тревожно спросил:
– Чего два дня?
– Главное, чтобы тебя после вспомнили, когда ты улетел. Тебе повезло, и родителям твоим повезло. Даже если у нас не получится или ты за три дня не успеешь – вас вспомнят. Тогда душа отпустится. А мне и улетать нельзя – меня никто не вспомнит, так душа здесь и сгниет. И эти ее сожрут.
– Я вас вспомню, – глухо сказал я, стараясь не выпускать слез, горячим валиком упершихся в лицо с той стороны.
Бабка пристально посмотрела на меня снизу вверх и строго спросила:
– Обещаешь?
Я пожал плечами и кивнул. Спохватился и, не дожидаясь замечания, сказал полным ответом:
– Да, я обещаю.
Бабка просветлела, встала на цыпочки и прошептала мне на ухо пять слогов. Дыхание у нее было прохладным.
Это имя, понял я с задержкой, кивнул и хотел назвать бабку как полагается. Но она снова ткнула пальцами мне в губы и сказала:
– Только когда душу отпускать надо будет. До этого забудь. Забыл?
Я кивнул.
Бабка тоже кивнула и скомандовала:
– Раздевайся.
Я сперва не понял, потом обрадовался, потом смутился.
– Совсем?
– Совсем. Ладно, штаны можешь оставить, пояс развяжи. И обувь сними. Так. Сядь туда. Туда, я сказала.
И показала на груду досок в неосвещенном углу. Я пригляделся и сообразил, что это не груда досок, а такая пародия на креслице, словно растянутое в лежак для космонавта: на уровне поясницы в угол была косо вбита треугольная доска под задницу, чуть выше по стенам шли бруски под предплечья – стало быть, подлокотники, – и совсем толстые бруски с округлым вырезом были вколочены в пол. Ногами упираться.
Я положил вещи на пол, придерживая штаны, прошел в тот угол и пристроился, как в кресле дантиста. Оказалось почти удобно, совсем не холодно и не занозисто: даже шероховатые бруски на ощупь казались полированными. Пальцам ног было больно, но я догадался чуть выгнуть стопу, и стало вообще в самый раз, будто кроссовки по размеру надел.
– Нож возьми, – сказала бабка.
Я приподнялся, вытащил из кармана нож, уронил ножны и торопливо сел обратно, выставив лезвие.
– Я говорю, это не нож, а ключ, – сказала бабка, колдуя с черной жидкостью из горшка.
Она ее цедила в пиалку, чуть перемешивала круговым движением и переливала в другую, оттуда в третью – и наливала по той же цепочке из другого горшка. Запах заполнял уже всю комнату, горький и опасный.
– Я помню, – сказал я, не понимая, чего она докапывается.
Бабка приблизилась ко мне, шепча под нос и медленно поводя пиалкой по кругу. Порядком отлила, но пиалка все равно была полной, так что жидкость задиралась блестящим краешком выше стенки. И не проливалась.
– Что это? – спросил я как можно спокойнее.
– Кровь, – сказала бабка, и я обомлел, но силой себя успокоил.
На кровь жидкость совсем не была похожа и пахла, скорее, лекарственным чаем. Какой-нибудь грудной сбор номер четыре с ромашкой и корнем багульника.
Бабка продолжала, не отрывая взгляда от жидкой плоскости, гуляющей в чашке, как оброненный обруч:
– Кровь – она память, кровь – она знание, кровь – она дверь, надо отворить, надо узнать, надо вспомнить, вода неба и вода земли, сок воды и сок огня, слово матери и дело отца… На руку положи! На ладонь!!
Я вздрогнул, как-то сразу понял и положил лезвие на открытую ладонь.
– На правую! Острием на себя, рукояткой в пальцы! Живое и мертвое, жидкое и густое…
Она плеснула мне на правую руку, холодно, на левую, сказала:
– …черное и белое, жар и холод…
Черные широкие потеки выцвели, стали теплым молоком и тут же – обычной водой, бесцветно затюкавшей в пол. А бабка уже ткнула мне пиалку в зубы, со стуком и чуть не расквасив рот, и скомандовала:
– Пей, два глотка.
Голова холодно закружилась.
– Быстро!
Я глотнул раз и два. Первый глоток ухнул вниз, помедлил и встал поперек желудка, как повернутая палочка. Второй заклинил горло и саданул по нему, точно наждачный рулончик. И тут же голова заполнилась жаром и звоном, снизу вверх. Из глаз брызнуло, я зажмурился, а бабка сказала сквозь жар и звон:
– Согни кисть. Сильнее. Сильнее согни, чтобы складка была.
Сунула лезвие ножа под эту складку.
И нож длинным бугорком пополз под кожей, выжигая и морозя, как утюг с привязанным мешочком льда.
Часть четвертая
Как дома
1
Из маски лилось, поэтому я торопился. Родители сползли с лежаков и теперь поджаривались прямо на песке. Утро, еще можно. Я подкрался, некоторое время переводил взгляд с маминой спины на папину, выбрал наименьший риск и уронил тонкую струйку между папиных лопаток.
– Маладес, – пробормотал папа не шелохнувшись. – За это получишь от меня рюпель.
Я отступил на шаг, затаил дыхание и вывернул маску на спину маме.
Мама с визгом вскочила, встряхнулась, как собака, взглянула на меня совсем не по-собачьи и пообещала: «Ну всё».
И кинулась.
Я, слабея от гогота, вчесал вдоль волн. Потом в другую сторону. Я неплохо бегаю, но мама что-то не отставала – судя по топоту и долетающим брызгам. Я почувствовал спиной узкую тень, попытался вобрать спину, споткнулся и полетел на песок, хорошо хоть, не в толпу толстых немцев, смотревших на нас снисходительно.
Мамка вжала мне голову в песок и в четыре приема выдохнула:
– Смерть провокаторам.
Оборвать хохот я не мог, вдохнул, поперхнулся и начал взрываться. Застучал ладонями по песку, показывая, что сдаюсь. Мама надавила ладошкой на загривок еще сильнее, так что песчинки вмялись в лицо и зажмуренные веки, и прошептала в самое ухо: