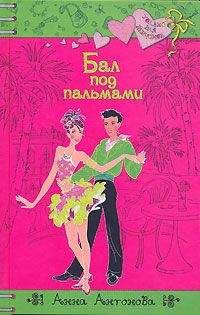Анна Старобинец - Резкое похолодание
Утром приехал грузовик и выгрузил все, что было в кузове. Мой любимый сам руководил разгрузкой. Пока оставалась маленькая щелочка, я смотрела на него. Он был очень грустный. А волосы у него стали совсем белые. Но это его не портило. Он был очень красив.
Потом приезжали еще грузовики. Потом выпал снег. Много снега.
Зимой мой любимый приходит ко мне. Очень часто. Я чувствую, как он скользит по горе. Его движения совершенны. Его силы бесконечны. Мне хорошо, когда он рядом.
Иногда он разговаривает со мной. Он очень по мне скучает. А еще ко [далее текст смазан]
стр. 18
[текст смазан]
* * *Объяснение по невозбуждению принято.
Приложение № 1 и приложение № 2 документами не являются и органами внутренних дел не принимаются.
Заявление об отпуске пишется отдельно на бланке не менее чем за две недели до отпуска.
У нас одни висяки, какой тебе Брянск?!
нач. РОВД Быков С. А.В пекле
Голые зеленые стены. Что там, у меня, — что здесь. Повесили бы хоть что-то. Книжные полочки. Календарь. Фотографии. Зеркало. Картинки какие-нибудь… Распорядок дня. Не знаю. Не важно что. Ну хоть что-то.
На столе у него идеальный порядок. Аккуратная стопка бумаг — в левом углу, допотопный дисковый телефон, обмотанный изолентой, — в правом. Настольная лампа — ровно по центру. Небось линейкой специально измерял.
Я торчу тут уже минут двадцать. Я знаю, он заставляет себя ждать специально. Хочет, чтоб я занервничал.
Что ж — я нервничаю. Разве можно спокойно сидеть в этой комнате? Когда вокруг — четыре квадратные зеленые лысины, мутно лоснящиеся в электрическом свете? Не за что уцепиться глазами. Я вскакиваю со стула, подхожу к окну, прислоняюсь лбом к стеклу — оно холодное, приятно-холодное, но без цветочно-лиственного ледяного узора. Жаль. Я мог бы разглядывать его, этот узор. И прикасаться к нему. И соскребать пальцем… Впрочем, пальцем едва ли получится — со связанными-то руками. А почему, собственно, нет узора? Непорядок. Наверное, дело в батарее: она раскаленная, вот узор и не ложится…
Еще я мог бы смотреть из окна во двор — наблюдать за прохожими на улице. За тем, как дети играют в снежки, или дерутся в сугробах, или засовывают друг другу за шиворот острые черные корочки заледеневшего снега. А старушки в зеленых пальто — почему, интересно, у этих старушек всегда зеленые пальто с коричневыми воротниками? — выгуливают своих маленьких трясущихся сявок в вязаных идиотских жилеточках. Я бы часами на все это смотрел, но только ведь… тут и двора никакого нет. Прямо напротив окна — другое окно. Другое бесцветное здание. Остается изучать заледеневшую черную решетку.
А можно еще — больших скрюченных мух, валяющихся в проеме между рамами. Они лежат по углам, кверху лапками, мертвые… Мертвые — ждут воскрешения. Когда станет тепло, они оживут и будут сначала вертеться на спинках вокруг собственной оси, а потом вспомнят, как ползать и как летать, и будут биться в стекло, и кто-то, возможно, их впустит. В эту комнату. С того света. Но я этого не увижу.
— Извините, что заставил ждать!
Его голос раздается у меня прямо над ухом. В очередной раз удивляюсь, как это он умеет входить неслышно.
— Пришлось немного задержаться: неожиданно возникли дела.
Ах, какие мы вежливые…
— Ну что ж, присядем.
Его бледная, в красненьких цыпках пятерня странно замирает в воздухе, как будто он подает мне руку, — и я, идиот, уже судорожно дергаю своей, связанной, и мне даже становится неловко, что я не могу ее протянуть… — но нет, он просто указывает, куда сесть.
Я знаю, знаю. За этот стерильный стол. На этот железный, с красным резиновым сидением, стул. А он сядет напротив, в свое черное кресло.
Знаю, не в первый раз.
Я сажусь на стул. Он садится в кресло.
— Хотите воды? — спрашивает, как обычно.
— Да. Холодной, — отвечаю я.
Тоже как обычно.
Еще ничего не началось, а я уже весь мокрый. Горячая влага проступает у меня на лбу, крупные капли текут по вискам, сползают за воротник — и он это видит. Он это, сволочь, прекрасно видит.
Он встает и выходит из комнаты. Снова пропадает где-то минут десять. Возвращается с граненым стаканом и ставит его передо мной на стол. Я молча изучаю отпечатки чьих-то жирных пальцев на толстом голубоватом стекле.
— Пейте, пожалуйста.
— Как? — тявкаю я.
От унижения мой голос становится одновременно писклявым и хриплым.
— Ах, простите, — говорит он с садистской полуулыбочкой.
Потом подходит ко мне и поит меня из стакана. Вода мутная, горячая и отдает хлоркой: он явно только что налил ее из-под крана. Я пытаюсь отстраниться. Пытаюсь отодвинуться вместе со стулом, но ножки его намертво привинчены к полу.
— Пей, пей…
Зажмурившись, я залпом выпиваю отвратительную бурду и скрючиваюсь на стуле. Сам виноват. Сам виноват. Сам виноват. Можно ведь было отказаться. Ну да ведь черт же его знает! В прошлый-то раз действительно принес холодную. Почти ледяную…
— Итак, давайте попробуем разобраться. С самого начала.
* * *…Комната вытягивается в узкий длинный пенал, потолок медленно ползет вниз, а зеленые стены — как же я ненавижу этот цвет! — отодвигаются от меня, мутнеют, мелко подрагивают. Как будто прямо передо мной, на этом его стерильном столе, разведен гигантский невидимый костер — и я смотрю на все через горячую дымку.
Сколько это уже длится? Час? Два? Пятнадцать минут? Не знаю.
Жарко у них тут. Жарко, жарко. Специально так сильно топят. От этой жары у меня страшно болит голова, я плохо соображаю, и часто не слышу вопросов, и путаюсь в ответах, и мямлю какую-то чушь… Вот что он только что спросил?
— Простите, что вы сейчас спросили?
— Я попросил вас назвать точную дату. Какого числа произошли… э-э-э… события?
— Я уже не помню… Последние числа декабря.
— А поточнее?
— Не помню.
Он встает с кресла и прохаживается по комнате. Встает у меня за спиной. Наклоняется к самому уху и спрашивает тихо и вкрадчиво:
— Что это был за вызов?
— К шестилетней девочке. На несколько часов.
— А точнее?
— От пяти до десяти, если не ошибаюсь. Оплачены были, кажется, все десять.
— И часто у вас бывают такие заказы?
— Нет. Это впервые. Обычно больше часа не бывает.
— Адрес?
— Я не помню точно.
— Ну тогда приблизительно. Попробуйте описать ваш маршрут.
Он возвращается на свое место, снова садится в кресло. Щурит маленькие красно-карие глаза. Темные горячие кружочки — в них скука, брезгливость и фанатизм. Черные точечки в центре — злоба.