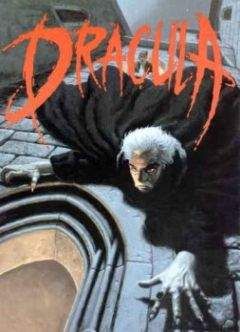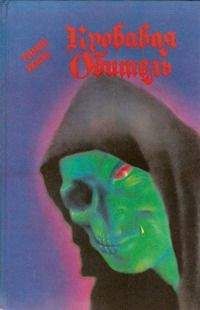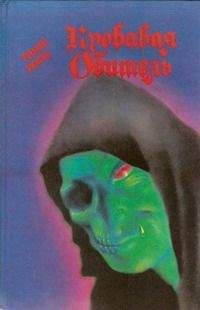Брэм Стокер - Дракула
18 сентября.
Моя дорогая Люси! Какой удар для нас! М-р Хаукинс внезапно умер! Многие подумают, что это вовсе не так печально для нас, но мы оба так полюбили его, что нам положительно кажется, что мы потеряли отца. Джонатан сильно сокрушается: он опечален, глубоко опечален, не только тем, что утратил этого доброго старика, так хорошо всю жизнь относившегося к нему, заботившегося о нем, как о родном сыне, и в конце концов оставившего ему такое состояние, которое нам, скромным людям, обыкновенно кажется несбыточной мечтой, но чувствует эту утрату еще в другом отношении. Он говорит, что ответственность, которая теперь целиком падает на него, заставляет его нервничать. Он начинает сомневаться в себе. Я стараюсь его подбодрить, и моя вера поддерживает его веру в себя. А то сильное потрясение, которое он недавно перенес, отражается на нем теперь еще больше. Прости, дорогая, что беспокою тебя своими горестями в те дни, когда ты так счастлива, — но, дорогая Люси, мне приходится быть мужественной и веселой при Джонатане, а это стоит большого труда и не с кем отвести душу. Послезавтра придется быть в Лондоне, так как мистер Хаукинс перед смертью выразил желание быть похороненным около своего отца. Поскольку у него нет никаких родственников, то Джонатан должен принять на себе все хлопоты по погребению. Я постараюсь забежать к тебе, дорогая, хоть на несколько минут. Прости, что потревожила тебя. Да благословит тебя Бог!
Любящая тебя Мина Харкер.
Дневник доктора Сьюарда20 сентября.
Я сменил Ван Хелзинка при Люси. Мы хотели, чтобы Артур тоже пошел отдохнуть, но он отказывался и только тогда согласился идти, когда я сказал ему, что он понадобится нам днем, и что будет плохо, если мы все одновременно устанем, так как от этого может пострадать Люси.
Артур ушел вместе с Ван Хелзинком, бросив пристальный взгляд на бледное лицо Люси, которое было белее полотна подушки, на которой покоилась ее голова. Люси лежала совершенно спокойно и мельком оглядела комнату, как бы желая убедиться, что все в ней так как должно быть. Профессор снова развесил повсюду цветы чеснока. Отверстие в разбитом окне было заткнуто чесноком, и вокруг шеи Люси над шелковым платочком, который Ван Хелзинк заставил ее повязать, был сплошной густой венок из этих же благоухающих цветов. Люси как-то тяжело дышала и выглядела гораздо хуже, так как полуоткрытый рот обнажал открытые десны. Зубы в сумерках казались еще длиннее, чем утром. Благодаря игре света казалось, будто у нее образовались длинные и острые клыки. Я присел на кровать, и она шевельнулась, словно почувствовав себя неловко. В это время раздался глухой звук, точно кто-то постучал в окно чем-то мягким. Я осторожно подошел и выглянул за отогнутый край шторы. Светила полная луна, и я увидел, что этот шум производила большая летучая мыть, которая кружилась у самого окна — очевидно, притянутая светом, хотя и тусклым, — постоянно ударяясь крыльями об окно. Когда я вернулся на свое место, то заметил, что Люси слегка пододвинулась и сорвала со своей шеи венок из чеснока. Я положил его обратно и продолжал сторожить.
Затем она проснулась, и я дал ей поесть, как предписал Ван Хелзинк. Она поела очень мало и нехотя. В ней не было больше заметно той бессознательной борьбы за жизнь, которая до сих пор служила доказательством крепости ее организма. Меня поразило, что как только Люси пришла в себя, она тотчас же лихорадочным движением прижала к груди цветы. Необычайно страшно было то, что стоило ей впасть в свой странный, как бы летаргический сон с тревожным дыханием, она сбрасывала с себя цветы; а проснувшись, снова прижимала их к себе. Я не мог допустить случайности этого явления, так как в продолжение долгих ночных часов, которые я провел, оберегая ее сон, она постоянно то засыпала, то просыпалась и всякий раз повторяла те же движения.
В шесть часов Ван Хелзинк сменил меня. Когда он увидел лицо Люси, он испуганно вздрогнул и сказал резким шепотом: «Откройте шторы, мне нужен свет!» Затем он наклонился и, почти касаясь Люси, осмотрел ее. Сдвинув цветы и сняв шелковый платок с шеи, он посмотрел и отшатнулся. Я тоже наклонился и взглянул на шею; то, что я увидел, поразило и меня: раны на шее совершенно затянулись.
Целых пять минут Ван Хелзинк молча стоял и сурово глядел на нее, затем обернулся ко мне и спокойно сказал:
— Она умирает. Теперь это протянется недолго. Заметьте, будет иметь громадное значение, умрет ли она в сознании или во сне. Разбудите нашего несчастного друга, пусть он придет и посмотрит на нее в последний раз; он доверял нам.
Я пошел в столовую и разбудил Артура. В первую минуту он был как в дурмане, но когда увидел луч солнца, пробравшийся сквозь щель в ставне, то перепугался, что опоздал. Я уверил, что Люси все время спала, но намекнул как мог осторожно, что мы с Ван Хелзинком боимся, как бы это не было ее последним сном. Он закрыл лицо руками, опустился на колени у кушетки и оставался в таком положении несколько минут, молясь.
Когда мы вошли в комнату Люси, я заметил, что Ван Хелзинк со свойственной ему предусмотрительностью решил идти напрямик и постарался обставить и устроить все как можно лучше. Он даже причесал Люси, так что волосы ее светлыми прядями лежали на подушке. Когда она увидела Артура, то тихо прошептала:
— Артур! О, моя любовь, я так рада, что ты пришел.
Он нагнулся, чтобы поцеловать ее, но Ван Хелзинк быстро отдернул его назад.
— Нет, — прошептал он ему на ухо, — не теперь! Возьмите ее за руку, это успокоит ее больше.
Артур взял Люси за руку и встал перед ней на колени, а она ласково посмотрела на него своими добрыми, чудными, ангельскими глазами. Затем она медленно закрыла глаза и задремала. Грудь ее тяжело поднималась, и она дышала, как уставшее дитя.
Тут с нею снова произошла та же перемена, которую я не раз наблюдал ночью. Ее дыхание стало тяжелее, губа вздернулась и открыла бледные десны, благодаря чему ее зубы казались длиннее и острее, чем раньше; она в полусне бессознательно открыла глаза, ставшие вдруг мутными и суровыми, и сказала таким странным и сладострастным тоном, какого никто из нас никогда от нее не слышал:
— Артур, любовь моя, я так рада, что ты пришел! Поцелуй меня!
Артур быстро наклонился, но тут Ван Хелзинк, пораженный, как и я, ее тоном, бросился к нему, схватил обеими руками за шиворот и со страшной, невероятной силой отшвырнул прочь.
— Ради вашей жизни, — сказал он, — ради спасения вашей собственной и ее души! Не прикасайтесь к ней!
Артур сначала не знал, что ему делать и что сказать, но раньше, чем приступ злобы успел овладеть им, он сообразил, в каких условиях он находится, и молча остался стоять в углу.