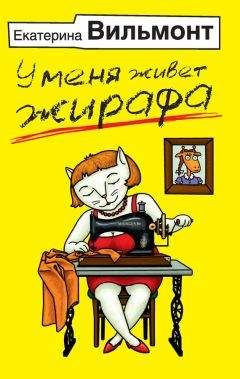Лорел Гамильтон - Сны инкуба
Очень остроумный был способ вытащить меня из воспоминания Дамиана, не рискуя самому в него свалиться. Очень остроумный, но каждый план хорош лишь настолько, насколько хороши его исполнители. Дамиан шевельнулся у меня на коленях, и у меня была секунда понять, что он сейчас сделает. Я набрала воздуху — предупредить Натэниела, но выдохнуть не успела. Это случилось быстро.
Дамиан схватил Натэниела за руку, и этого хватило. Мы будто утонули в свете. Будто мир вспыхнул и запылал жаром, и этот жар был золотым, как будто пролился и все залил жёлтый цвет. Жёлтое тепло, жёлтый жар, и он слепил глаза. Мы ослепли в свете. Ничего не было, кроме света и касания её изящных ручек, и руки Перрина в моей руке. Его рука была большой, надёжной, якорем в кошмаре света. Её ручки гладили, но это было не настоящее. Она вытащила нас на свет пить от нас страх, а не секс.
Она оторвала от меня руку, и голос её, когда-то казавшийся мне красивым, звучал сейчас злобным скрежетом, ядом, потому что я не мог сказать ей «нет».
— Одного сжечь, одного сохранить.
Перрин повернулся, обрамлённый на миг светом. Волосы его были жёлты, как сам этот свет, и глаза его были как небо за окном. Он был высок, плечи его так широки, что заслоняли почти все окно. Он был огромен даже среди высоких, и не раз во время набегов на города люди разбегались с криками: «Великан!»
Перрин стоял, залитый светом. Залитый светом, но он не горел. Слова, начавшие это безумие, возвращались:
— Наверное, причина, по которой они могут с тобой ходить при солнце, Моровен, не в том, что ты делишься с ними силой, а в том, что они сами набрали силу, позволяющую не бояться солнца.
Посланец совета сказал эти слова и оставил их как ядовитую блоху в ухе той-что-нас-создала. На миг мы тогда подумали, что посланец сказал правду. Мы думали, что Перрин стоит в свете на собственной силе. На одну ослепительную секунду мы в это поверили. Но на его лице было выражение не триумфа, а страха. Глянуть на него раз уже было достаточно. Что-то происходило не так.
От его кожи стали подниматься колечки дыма, как в кино. Та часть, которая ещё оставалась мною, Анитой, подумала: «Это неправильно». Все вампиры, которых я видела на солнце, вспыхивали пламенем — без дымка, без ожидания, — сразу. И моё недоумение помогло мне оттащить нас от края ужаса. Помогло смотреть, как поднимается дым от кожи Перрина, не дать страху задушить нас. Пламя вспыхнуло, и в мгновенье ока Перрина окружил оранжевый ореол. Длинные волосы затрепетали на жарком ветру. Успела мелькнуть мысль: «Как это красиво!», — но тут пламя заревело и кожа его поползла, чернея.
Перрин завизжал, но и это слово не передаёт звука, раздавшегося у него изо рта.
Мы закричали, потому что не могли не закричать. Весь ужас, скорбь, страх должны были вырваться из нашего рта, или они бы сожгли нам кожу и раздавили рассудок. Мы кричали, потому что это был единственный способ не обезуметь.
Вдруг я почуяла запах леса, густой зелёный запах лесной чащи — наполовину запах рождественской ёлки, наполовину — взрытой земли. Я стояла и смотрела на горящего вампира, друга всей моей жизни, моего брата, и была спокойна. Я ощущала только запах леса, не океанской соли, а леса и только леса, а потом учуяла ещё кое-что. Сладкий мускусный запах волка. Ричард.
От мысли о нем запах леса и меха перебил все прочие ощущения. Воспоминание стало таять — в буквальном смысле: образы расплылись, и нас потянуло прочь из той страшной комнаты. Через все эти годы доносился крик Перрина, становясь далёким. Он стал выкрикивать её имя, то, которым, я слышала, называют ту-что-их-создала:
— Моровен! Моровен!
Но теперь, когда крики изменились, возникло другое имя — Немхаин. Во мне достаточно осталось от памяти Дамиана, и я поняла, что это — её тайное имя, истинное имя. Снова и снова кричал её имя Перрин, и Дамиан отзывался эхом, и его крики становились теперь громче, когда воспоминание таяло, и он кричал то же имя:
— Немхаин!
Мы свалились обратно в сейчас, на пол моей ванной, где лежала рука Ричарда у меня на плече. Я попыталась заглянуть ему в лицо, но Дамиан вскочил на колени, будто сейчас побежит к чему-то, чего я не вижу. Я обняла его руками за талию, за грудь. Натэниел держал его за руку мёртвой хваткой, мы держали его, будто он мог броситься к пылающему Перрину и погибнуть сам.
— Будь проклята, Немхаин, будь проклята! — кричал он.
И вдруг свалился так внезапно, что я бы упала с ним в стеклянную дверь душа, если бы Ричард не подставил руку мне под спину. Натэниел поймал Дамиана за другое плечо, задержав падение. А Дамиан все приговаривал, скорее всхлипывая, чем шепча:
— Будь проклята, Немхаин, будь проклята.
Он свернулся в клубок у меня на коленях, прижавшись тесно к изгибу руки Ричарда. Натэниел гладил волосы Дамиана, гладил и гладил, как утешают плачущего ребёнка.
Он все ещё бормотал её имя, проклиная её в буквальном смысле, когда мир вдруг утонул в страхе. Как если бы ужас стал воздухом и надо было им дышать, чтобы не умереть, но дышать — тоже значит умереть. Все это была смерть. Все — страх. Он ревел у меня в мозгу, бездумный, бесформенный, страх настолько яростный, что на миг остановил мне сердце, заставил его застыть, будто сейчас оно остановится навеки. Умирать от страха — это не фигура речи. Был миг, когда я ждала, что решит моё сердце — биться дальше или замолчать, только бы уйти от страха. Только бы уйти.
Опора руки Ричарда исчезла, и я ощутила прикосновение к спине холодного стекла, будто он подставил мне дверь для опоры, чтобы больше не прикасаться.
Дыхание вырвалось у меня прерывистым выдохом, сердце подпрыгнуло и забилось с такой болью, будто набило себе синяки о ребра. Болела грудь, болело горло, и воздух все ещё был страхом, который стал явью. Каждый вдох втягивал его в меня все глубже. Потому что это была она. Она, Немхаин, Моровен, создательница Дамиана и Перрина тоже. Насчёт того, что нельзя произносить её имя — это не просто предрассудок. Звук истинного имени Моровен пробудил её силу, привлёк к нам её внимание. Я ожидала голоса, соответствующего ужасу, но слышала только тишину, такую оглушительную, что слышно было, как кровь колотится в жилах. Сердце грохотало в теле, потом я услышала другое сердцебиение, быстрее, ещё более испуганное, чем моё. Как он мог жить в таком страхе?
Я медленно повернула голову, потому что ничего другого сделать не могла. Я заставила себе повернуться вопреки страху и взглянуть на Натэниела. У него глаза так раскрылись, что сверкали белки, и он хватал ртом воздух, будто не мог продохнуть. Будто его душил страх.
Дамиан лежал у меня на коленях как мёртвый. Глаза его закрылись, и он не дышал. И сердцебиения не слышно было. Пришла мысль: «Она забрала то, что дала ему», — но вслед за этой мыслью пришла другая: «Он мой. Я заставляю биться его сердце. Я заставляю кровь течь по его жилам. Он мой. Не твой. Больше не твой. Мой».